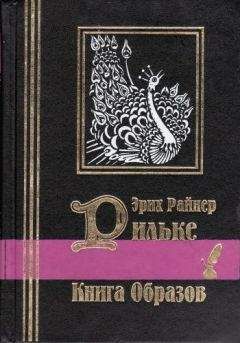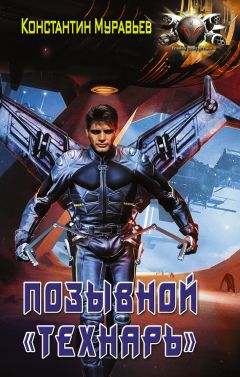Ирина Сабурова - О нас
-- Жестокость -- не монополия китайцев! Достаточно посмотреть на наш век ...
-- А вам не кажется, пани Ирена -- возразила Маргарита Васильевна, -что известная нивеллировка при этом неизбежна, и взлеты фантазии заглушаются. Возьмем их историю: масса выдумки, чисто практической изобретательности, "вегетативная цивилизация", при которой из бамбука делается все, от кушанья до хижины, -- но нет великих открытий, открывателей белых пятен, великих творений искусства, во всем -- остановка на полпути: изобрели порох -- но не сделали пушек. Открыли компас -- но не открывали новых земель -- в море не тянуло дальше берегов. Скованность же формой приводит к окостенению -- за тысячи то лет! Я не против формы отнюдь. Наоборот, тоже ценю их искусство паузы, глубокомысленность недосказанности, сдержанность, непоказывание чувств -- а вам бросилось в глаза, что это родственная черта с англичанами? Но те как раз -- путешественники, открыватели, исследователи. Они любознательны, и изучают все, хотя у них тоже чувство острова, отгораживание от иностранного, "континентел".
Проходившая мимо Демидова остановилась, и не совсем разобрав, в чем дело, сразу загорелась.
-- Премудрое правило, пусть и крайность, но все таки лучше. До какой степени обрыдла наша безмерность, бескрайность, самомнение и разнузданность с одной стороны, и наплевательство с инертностью с другой. Кричат о "широкой русской душе", размахе, а у кого из этих кричащих действительно дерзость мечтаний, духовные запросы, стремления? На сотню -- у одного, и то хорошо. Так пусть эти девяносто девять остальных, понимая, что пороху не хватает, предоставят одному взлетать, а сами постараются приобрести побольше этой "материальной" сдержанности, простых, маленьких дел. "Лучше зажечь хоть одну свечу, чем сидеть в темноте" -- сказал Конфуций, а он бесспорно -- мудрец. Прометеев немного. Слава Богу, что они находятся, и для них, как высшая школа -- идеализм, поиски Бога, смысла жизни. Но большинство застревает в основной школе. Для них простые правила -- лучше. Кто не может подняться выше золотой середины -- пусть достигнет хотя бы ее, а не остается где то внизу, со всей безалаберностью, болтовней, и сплошь и рядом -- мерзостью. "Господи благослови" -- под первую рюмку, за царя, за батюшку или за родину, за Сталина -- под третью, а потом -- "Из острова на стрежень" -- и в чужую морду -- под десятую, или кулаком в свою грудь: мы-ста, да вы-ста! И под конец -- своей мордой уже -- в грязь, в слезы: жизнь, видите ли, среда заела... важна не форма, а содержание, нутро! Меня от этого содержания тошнит, простите. Ну вот, двое уже пошло в присядку, и я ухожу, кстати важное лицо тоже кажется отбывает, так что приличия соблюдены. Завтра суббота, и я полдня смогу упражняться на линотипе. Знаете, уже прилично набирать могу, и заказы есть. А в воскресенье непременно выберусь к вам, Таюнь, как обещала. Заехать за вами, Маргарита Васильевна? Хорошо теперь в усадебке, у нашей карманной помещицы...
-- Подождите! -- Маргарита Васильевна взяла ее мягко за руку и усадила рядом с собой. -- Вы ведь недавно интервьюировали одного нового -вернувшегося из плена, не то русского, не то балтийца... Расскажите своими словами, не казенными. Как там было? Кто он такой? Из какого лагеря?
-- Прежде всего -- усмехается Демидова, -- есть и такой народ, как русские балтийцы, Маргарита Васильевна, хоть вы, по вашему завзятому ленинградскому патриотизму, их не признаете ... нет, я шучу совершенно серьезно. Вот подождите, первым моим произведением на линотипе будет целый манифест. Мы ведь, русские балтийцы -- это в сущности политический, географический и всякий иной курьез... Наше прошлое -- ваше будущее!
-- А вы зубы не заговаривайте. Рассказывайте про вашего балтийца. Молодой еще?
-- Если бы не складки на лице, как у девяностолетнего Форда -- молодым назвать можно. Он из Либавы родом, и не успел кончить Сельскохозяйственной академии -- у отца хутор был -- как пошел в Латвийский добровольный легион. Был ранен, попал в плен, где его приписали к немцам. Вернулся сюда через одиннадцать лет. Вот и вся история. Отвечает на вопросы с трудом, как будто говорить разучился. И то: событий почти не было, кроме главных дат, а то, что действительно было -- рассказать трудно, даже тем, кто понимает. Пришел из другого мира. Сейчас, говорит у него все есть: одели, обули, правительство заботится, сперва в госпиталь поместили, конечно. Здесь нашел старого товарища по лагерю, тот вернулся раньше, квартира есть. Сказал, что ему труднее всего -- из ванны выйти, так бы и сидел весь день... А улыбка деревянная, как будто шарниры по приказу раздвинул...
-- Насколько мы вас знаем, вы этим не ограничились?
-- Ну конечно хотелось для него хоть что нибудь сделать. Пригласила для интервью ко мне, чтобы угостить нашими балтийскими блюдами: пирожками со шпеком, и тушеной капустой. За столом стал рассказывать, скупо и сухо, в особенности, когда увидел, что я уже многое знаю -- и о Воркуте и Караганде, о Кингире и Норильске, и так далее.
"У меня совсем ничего интересного нет -- говорит. Я был в Потьме, не так уж далеко от Москвы. Сперва на лесозаготовках, потом на швейной фабрике -- легкий лагерь. Шили для армии. Очень скучно. Сперва двенадцать, потом десять часов в день. Каждый день одно и то же ... Потом надо долго ожидать, пока кончится обыск -- чтобы мы ни одной нитки не унесли. Последнее время немного платили за работу. В лагерном киоске можно было купить махорку и хлеб, конфеты. Ничего интересного." ...
-- Спросила его, почему работа на кирпичном заводе считается такой ужасной? На нее обычно женщин назначают, но они больше двух-трех лет не выдерживают. Усмехнулся. Вручную, говорит, делать кирпичи, как их делали триста лет тому назад -- нелегко. А норма такая же, как при машинной выделке. Вот потому. Ну, я вижу, что интервью не клеится, да мне главное уже известно. Слишком многие вернулись уже за последние годы. Рассказывали, писали книги. И в конце концов меня интересуют не цифры и нормы пайка, не условия даже, которые почти везде одинаковы, а я хочу какой нибудь -- живой пример, человеческий. Морщит лоб и старается понять, пирожки ему понравились, конечно -- через столько лет родное блюдо. Наконец решился.
"Если я вас правильно понял... расскажу один случай. Со мной. Относительно портянок. Сами они по себе конечно не интересны, но для меня были большим делом. Нам выдавали портянки два раза в год. Вы знаете вообще, что это такое? Так вот... я их не ношу. Никогда не носил, и сказал себе, что никогда, ни за что! Только носки." ...
-- Говорит, и так сжимает зубы, что понимаю: у него, пленного, не было ничего, и никакой надежды ни на что, но хоть что нибудь надо же иметь человеку, за что цепляться, на чем упорствовать, чтобы сохранить свое человеческое лицо, не поддаться, выжить . .. пусть хоть носки!
"Я всегда доставал себе носки... как? По всякому. Не курил. Иногда отдавал и хлеб, все равно -- доставал, и чинил, конечно. А портянки -копил. Да, у меня была мечта: сделать себе простыню. Вы не смейтесь, пожалуйста. Вы не знаете, что такое -- простыня! Из года в год -- солома, одеяло, если есть, то как щетка, а больше тряпки просто... Честное слово, мне казалось, что если у меня будет простыня -- я, как король, буду спать! С утра уже начинать мечтать можно -- что вот, ляжешь вечером -- на простыню. Вроде как человеком снова станешь. Я думал о ней часами, воображал. Просто навязчивой идеей стало. Но простыню нельзя было достать, конечно, так я надумал сшить. И копил портянки. Высчитал, что четырех пар будет достаточно -- выйдет небольшая простыня. Два года копил их. Потом организовал все таки нитки с фабрики, по кусочкам. И вот, сшил. Тоже не сразу конечно. Все простые дела в лагере требуют большой подготовки, и даже хорошо, что думаешь о них, изыскиваешь пути, а то и думать разучишься. Какая же это была хорошая простыня! Вам она наверно такой роскошной не показалась бы, но мне ... Когда я первый раз постелил ее -- как будто в ванну лег, и единственный раз за эти годы -- был счастлив. Недолго, конечно. Пришли с обыском. Схватили простыню: откуда? Объясняю, что это мол портянки ... видно же, что сшита. Свои портянки, за два года, которые полагались. "А вот простыня не полагается"! И отняли."
Демидова смотрит, как Таюнь медленно разливает всем вино чуть дрожащей рукой, и таким же медленным, шатающимся голосом заканчивает придавленно:
-- Может быть вы, Таюнь, с вашим жанром могли бы нарисовать глаза этого человека -- мечта поверх реальности, картина в двух планах? Конечно, этот молодой старик такая же песчинка, как и все мы... ну что в конце концов такое -- одиннадцать дет в советском лагере, мечта о простыне, сломленная жизнь? Только мне показалось, что он никогда не мечтал больше, ни о чем, и не сможет больше. Вот потому ...
Она не договорила, встала, молча пожала всем руки и пошла к выходу. Маргарита Васильевна и пани Ирена собрались по домам тоже -- кто то окликнул их, чтобы проводить.
* * *