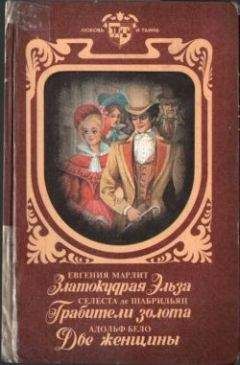Адольф Гофмейстер - Кто не верит — пусть проверит
Зимой скалу свалили на набережную и, как огромные каменные сани, притащили по снегу на Исаакиевскую площадь. Это тема для романа, Кнопка! Прошлое — царь — и современность — «Аврора» — неподалеку друг от друга. Незабываемое впечатление!
— А еще что ты часто вспоминаешь?
— Два события. Оба произошли в 1934 году. Стояло замечательное лето, я был еще молод. Мне было тридцать два года. С тех пор прошло много времени, но помню все, до мелочей. Это случилось двадцатого августа 1934 года. Я сидел у большого окна в номере гостиницы «Метрополь» в Москве, где мы жили вместе с Незвалом,[36] и рисовал дружеские шаржи на участников Первого съезда советских писателей. Я был делегатом от чехословацких писателей. Был я страшно расстроен: во всей Москве, даже на Кузнецком мосту, где вообще можно купить все что угодно, я не мог достать тушь. Ее вообще не было в Москве. А без туши трудно рисовать.
— Как же ты рисовал?
— Чернилами. И тоже получалось. Не следует быть мелочным.
— А кого ты рисовал?
— Десятки знаменитых людей. В Москву съехались в гости писатели со всего мира. И, наверно, там были все советские писатели. Гостиница «Метрополь» напоминала дом отдыха чешских писателей в Добржише во время рождественских каникул. Кого ни встретишь, каждый писал, или собирался писать, или считал себя писателем. Каждый мог рассказать что-нибудь интересное, ради чего стоило постоять, поговорить, выпить вместе чаю и бежать дальше, опять постоять, поговорить, выпить чаю, и так до самого окончания съезда.
В этот день, в пять часов, к гостинице подъехали паккарды и кадиллаки ВОКСа. ЗИМов и ЗИСов тогда еще не было. Мы отправились далеко за город. Шел дождь, и грязь была такая непролазная, что автомобили скорее плыли, чем ехали. Тяжелые машины ежеминутно буксовали, а в этом радости мало. С окраины мы попали в поле, с поля — в лес и вдруг оказались перед небольшим ампирным зданием. В большой приемной нас встречал хозяин.
— Кто это был?
— Один из величайших писателей мира, о котором вам рассказывали в школе.
— Папа, не говори загадками, не дразни!
— Максим Горький. Высокий, худой, с длинными свисающими усами, которые он то и дело поглаживал большим пальцем, с длинными руками и слезами на ласковых глазах. Старый, очень старый, но очень живой, подвижный. Живее, чем все мы, гости.
На нем была белая рубашка с широким воротничком и шелковым галстуком, какой носил в молодости твой прадедушка. Время от времени он надевал тюбетейку на густые, не белые, но заметно поседевшие волосы. Он был, собственно, подстрижен ежиком, но волосы у него такие мягкие, что они не держались и распадались во все стороны. Мы уже видели его на заседаниях съезда, но здесь он был дома. А дома человек выглядит всегда иначе. Писатели — французы, венгры, испанцы, немцы, норвежцы, англичане, чехи, словаки — расселись вокруг огромного стола, широкого и длинного. Стол был покрыт оливково-зеленым сукном с бахромой.
И случилось, как это часто бывает, — люди собрались и не знают, с чего начать, о чем говорить. Напряжение неожиданно разрядил котенок. Он вскочил на край стола, словно по лужайке, прошел между двумя рядами писателей на другой конец, прямо к Горькому, и свернулся клубочком у него на коленях. Горький погладил его, и дискуссия началась. Разговор не смолкал. В то время было о чем поговорить. Разоренный, израненный мир, казалось, истекая кровью и спотыкаясь, брел по Вселенной. Назревала мировая война. Китайская писательница, описывая ужасы японского вторжения, растрогала Горького до слез. Каждый говорил о том, что он будет делать, если разразится война. У всех были большие планы… Но, как видишь, все произошло совсем иначе. Во время войны человек не волен делать то, что хочет. Война подобна смерчу — она хватает тебя за шиворот и тащит. Но будем надеяться, что это была последняя война.
— Это правда, папа?
— Надеюсь, что правда, Мартин Давид. Ведь сейчас мир не так разобщен, как в 1934 году. Люди, живущие на разных концах земного шара, стали лучше друг друга понимать… Ну, поговорив о том о сем, мы уселись в столовой ужинать. Это было настоящее русское угощение. Столы ломились от яств. Холодные цыплята, салаты, рыбы, икра, пироги и паштеты, водка, вино, пиво — и все это были только закуски. Больше всего мне запомнились серовато-фиолетовые соленые грибы — рыжики. Вероятно, потому, что Горький мне сказал, что они собраны в лесу около дома. Он сам ходил собирать их.
И вот еще на что я обратил внимание: все, кто подавал на стол, привратник, шофер, — словом, все кто вел хозяйство Горького, были каким-то образом связаны с его жизнью. Все они уже стары, выросли в тяжелых условиях, все любили друг друга, словно вместе с Горьким пришли пешком в город.
Это не были родственники. Возможно, они бывшие бродяги, бурлаки или босяки, которых Горький собрал во время своих странствований по широкой Руси. Ты знаешь Максима Горького по фильму о его жизни, по картинкам в хрестоматии. Но когда сам видишь такого человека, то перед тобой оживают и его произведения. Подрастешь, и будешь читать его «Мать», его книги о бедных людях, о том, какой жизнь была раньше.
Когда-нибудь ты поедешь в Советский Союз. И, узнав из книг Горького, как тяжело жилось народу раньше, особенно хорошо поймешь, какие огромные изменения принесла Октябрьская революция.
Максим Горький дождался лучших дней. Но большая часть его жизни прошла в то время, когда царствовали голод и нищета, когда труд был нечеловечески тяжелым, подневольным, во времена несправедливости и озлобления. Ты родился уже в новое время. Чтобы оценить его, ты должен читать о том, какой была жизнь раньше, в годы молодости Горького. И это ты лучше всего узнаешь из его книг.
Но ведь я начал рассказывать о приеме! Настроение было замечательное. Ты знаешь Витезслава Незвала. Одна выдумка сменяла у него другую, своим красноречием и энтузиазмом он заразил весь левый конец стола. В Советском Союзе любят придерживаться старых народных обычаев и на таком пиршестве, как ужин у Горького, конечно, соблюдались старые обычаи. Горький сидел во главе стола, но по его желанию присутствующие выбрали председателя, который предоставлял слово, провозглашал тосты, устанавливал тишину, когда произносились речи. Его называют старинным грузинским словом «тамада». Тамадой мы выбрали писателя Алексея Толстого. Он в этом деле разбирался!
Когда веселье достигло апогея и рюмки наполнили для нового тоста, открылись двери, и к писателям пришли советские государственные деятели. Пришло почти все правительство.
Никогда, ни до того, ни после, я не сидел за столом, за которым собралось столько великих людей. У меня даже дух захватило. Один тост следовал за другим, и у всех нас было такое чувство, что именно так и должно быть: вот так государственные деятели должны встречаться с художниками — весело, за рюмкой вина.
— Папа, а как же вы разговаривали?
— На всех языках мира. Там, правда, присутствовали переводчики, но они, пожалуй, не были нужны. Когда встречаются люди, у которых столько общих идей и общих целей, то не так уж трудно понять друг друга. Но больше всего мне понравился испанский язык, — на этом языке испанская поэтесса Мария-Тереса Леон подняла тост за счастливое будущее детей всего мира. Максим Горький улыбался, на глазах у него выступили слезы, он угощал, присаживался к отдельным группам, образовавшимся за столом. Попрощались мы с нашим хозяином на крыльце. Был третий час. Робко брезжил рассвет. По дороге в Москву мы говорили только о Горьком. Его простота и человечность произвели на нас незабываемое впечатление. Этого вечера я никогда не забуду. Таких встреч в жизни человека бывает мало.
— Рассказывай дальше!
— Ну, и еще одной встречи я никогда не забуду. Перед гостиницей «Метрополь» — небольшой садик. И кафе прямо на тротуаре, как в Париже. Там так приятно посидеть, наблюдая проходящих мимо людей, уличное движение, жизнь города! Мы, чехи, назначали в этом кафе друг другу свидания. С Юлием Фучиком, с Петером Илемницким,[37] с Францем Вайскопфом…[38] Тяжело вспоминать. Прошло немногим больше двадцати лет, и никого из них уже нет в живых. Однажды сижу я там днем, и вдруг приходит товарищ Гакен, старый коммунист (его, бедняги, уже тоже нет), и представляет меня… угадай кому?
— Не хочу гадать, рассказывай!
— Товарищу Клементу Готвальду.[39]
— Президенту Готвальду?!
— Тогда товарищ Готвальд еще не был президентом республики. Ведь я тебе сказал, что это было более двадцати лет назад. Товарищ Готвальд расспрашивал меня о многом. О карикатурах, о том, как мы смотрим на съезд писателей, о том о сем. И, чем больше мы разговаривали, тем больше он мне нравился. Я высказал ему все, что у меня было на душе. Он покуривал трубку. Говорил немного. Но на все находил ответ. Короткий. Ясный. Это была встреча, которая многое решила в моей жизни. А тем самым и в твоей. Ты даже не представляешь, как много!