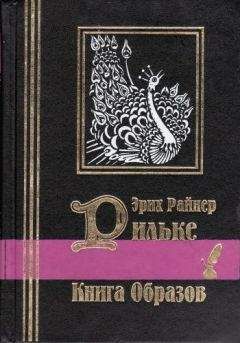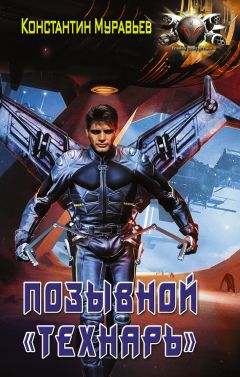Ирина Сабурова - О нас
Без психоанализа понять любовь к цветам у этих людей было бы трудно: и уж во всяком случае, не они были виноваты в том, что раз посаженный корень расцветал, скажем, изысканно пышным, до последнего увядающего мгновения царственным пионом; для них пионы росли, как добавление к картошке, и клумбы перед домом полагались, как воск для полов и воскресная булка в праздник. Кроме того, цветы нужны для свадеб, похорон, иногда для больных -- смутное, но обязывающее чувство неосознанной и легко заглушаемой тяги к красоте -крошечному избавлению от зла. Совсем молодая девушка, или старушка может еще помечтать или вспомнить, почувствовать цветок; в промежутке, в котором проходит жизнь, этого некогда делать, мысль сердца вытесняется копеечной мелочностью.
Цветы нужны были еще раньше и для "людей получше", которых ждал городок в виде хорошо платящих гостей, дачников. Теперь эти люди получше -пенсионеры, вдовы чиновников, директора и даже профессора явились в городок совсем без претензий, за которые они не могли теперь заплатить; большинство "бывших", а это было видно, несмотря на придавленную ободранность -вызывало досадное разочарование, просто обиду. Нашли, когда и как явиться! В войну, и беженцами!
Раздражало и то, что они рассказывали. Раньше восточные и северные области германских и загерманских земель были тем, что интеллигентные люди называют экзотикой: интерес к чужестранному, следовательно, не очень большой. Сейчас это были чужие, непонятные судьбы, свалившиеся обузой. Война была тяжелым, но понятным явлением: в конце концов, многие помнили еще Первую мировую войну, да и когда не воевали вообще? Так заведено, а дальше маленьким людям разбираться нечего. Но в навалившейся тяжести и помимо войны было много непонятного. Сперва это был онемеченный польский городок; все люди получше носили звонкие польские и немецкие фамилии, в окрестных имениях нередко с коронками и гордым гербом. Сейчас городок стал ополяченным немецким: настоящие -- то есть чужие немцы презирали всех местных, а местные немцы ненавидели их и презирали всех тех, кто вовремя не успел перестать быть поляком: польская бабушка была не лучше еврейской. Судьба всех пограничных поселений, переходящих на несколько поколений то к одной, то к другой стороне была действительно нелегкой -- непосильной вообще для скромных умов. Учитель и бюргермейстер должны были слушаться начальства, а ксендз скрывался за текстами Священного писания, как за решеткой исповедальни.
У пришлых же были свои мысли и мнения, они не стеснялись говорить о них, хотя бы между собой, но часто даже возвышая голос, что при их чужом акценте было даже вовсе неприлично. И к ним не прислушивались, смутно чувствуя, что не надо: ничего, кроме лишней сумятицы и вреда, лишнего знания о том, чего не надо знать, они не дадут.
Что ж удивительного, если мечта сохранилась только в лебедях, плававших в озере около кургауза: семи статных красавцах, изящно описывавших шеями реверансы у берегов и мостика через ручей, откуда им бросали -- да, даже теперь -- кусочки хлеба. Убедившись, что хлеб брошен весь, они заворачивали полукругом, и попарным менуэтом отправлялись дальше. На середине озера был небольшой островок; там стоял их домик, разукрашенный резьбой по приказанию покойного графа, подарившего их городу вместе с озером, парком и лесом.
Но если жить без мечты нельзя ...
... Так как же, трактат о лебедях? Может быть, они всегда были здесь с тех самых пор, когда в озеро смотрелся только лес, камыши, ветвистые головы лосей? Тогда их наверно было много -- пока где то, среди лесов не поднялся вдруг первый дымок костра, прозвенела первая стрела закутанных в кожи и шкуры людей. Потом кожа сменилась блеском лат, когда в лесу прорубили, протоптали копытами и скрипящими колесами дорогу, расчистили поляны, обтесали камни для замка -- далеко, на затерявшемся в лесах холме. В замке кидали подачки в ров с зеленоватой водой, на башне крылом загибалось белое покрывало прекрасной дамы. Лебеди должны были признать, что она прекрасна, если позволяли себя ласкать иногда, и так же медленно, так же ускользающе серебрилась за ними струя воды, как теперь.
Но поляны расползались, дороги раздваивались, троились, людей становилось все больше, лосей все меньше, все чаще звучали рога, лай собак, и озеро бороздили теперь рыбачьи лодки тоже, неуклюжие и серые, сердившие лебедей. По корневищам лесных дорог, отполированных хвоей, катились, подрагивая, на огромных колесах кареты, рожки почтальонов выбивали веселую трель, а на развалинах старого замка выстроили графский дворец, белевший далеко вокруг, теперь уже среди полей. Через ров был переброшен твердый мост, а ров расширялся, загибался в пруды, в озерки у ручья среди баскетов и клумб. Нарочно, для лебедей, они знали это, и когда загорались вечером огни, к замковым лебедям прилетали гости с озера тоже. Их давно было запрещено стрелять всем, кроме самого графа -- белый пенюар лебяжьего пуха, нежнейшее прикосновенье к атласной коже, он подарил невесте в день свадьбы.
Но стреляли раньше -- тогда еще, когда на позолоченных блюдах подавали жареных лебедей на пирах. Не от этого их становилось меньше. Гораздо хуже был въедливый дым, пачкавший перья, гул и грохот железных вагонов, доносившийся до озера. К людям, поселившимся на берегу, еще можно было привыкнуть -- они бросали в воду вкусный хлеб, но дым, застилавший солнце... Не мигая, лебеди презрительно смотрели в даль, печально и упорно затаивая тоску по тишине и чистоте, и все чаще удалялись на островок, где теперь у них был свой дом. Может быть, они даже уже сами знали, что стали теперь бесполезным пережитком романтики среди людей и их химии, электричества и -пушек, тоже громыхавших вдалеке, швырявших тяжелыми ударами воздушные глыбы и густые облака мельчайшей пыли, пыли, пыли...
Эта пыль почти невесома -- и тем более гибельна для воздуха, леса, воды, тела. Да и для души тоже, ведь и у нее крылья. Но все менялось вокруг -- даже вода в озере -- с тех пор, как появились сточные канавы. Только лебеди -- о, они были неизменны, ни одно легчайшее перо не сдвинулось за тысячу лет, и гордая голова поворачивалась к рыбаку и рыцарю в шлеме, господину в цилиндре или котелке одним и тем же, до совершенства законченным поворотом, равнодушно принимая поклонение, как должное, спокойно ускользая в недосягаемую -- рукой с берега -- водную гладь, и так же затаивая в уголках глаз что-то, совсем уж недоступное никому, понятное только -- редким теперь! -- пролетающим журавлям в осеннем небе. Но и журавлиные треугольники редели, и весною в гнездах все меньше укладывалось в сухих травинках крупных, продолговатых яиц, тяжело налитых жизнью будущих поколений. Лебеди не сдавались. Они просто уходили, отказывались от будущего, в котором не было места ни им, ни тысячелетним мечтаньям о сказочной красоте и недостижимо прекрасном.
Ну вот и осталось их семь -- на замерзшем озере кургаузного парка захолустного мещанского городишки, придавленного к серым камням зловещей глыбой пылающей на горизонте войны, оглушенного непонятными истерическими воплями расизма, переходившего здесь в змеиное шипение, в то, на чем можно было сорвать бессильную злобу на тех, кто был еще меньше, еще беззащитнее, безответнее, еще обреченнее. За тех своих, кровных, кто должен был почему то умирать там, за горизонтом, непонятно и неотвратимо пропадать без вести, возвращаться калеками без рук, без ног. Из страха перед теми, пришлыми, кто, с каменными глазами и сытыми лицами над общелкнутыми мундирами щелкали каблуками, вскидывая руки: хейль Хитлер! -- и топтали сапогом по самому больному месту; перед теми, кто стрелял в безоружных, но зато охотно и в любой момент. Это -- мелкая, бессильная, подлая злоба, порожденная таким же страхом; удавленность душителей -- качество исключительно двуногих. При пожаре или наводнении серна может спасаться рядом с волком, он ее не тронет.
Но гибель неизбежна, все равно.
Лебеди давно уже не улетали на зиму: они обжились здесь, в теплом домике, им прорубали полынью, если озеро замерзало в редкие суровые зимы, и стайка была очевидно слишком мала, чтобы пуститься в дальний путь, а где уж там скликать окрестных лебедей, которых может быть и нет вовсе? Может быть, ласточки рассказали им о бомбовозах тоже?
На зайцев и куропаток охотились теперь не только присяжные браконьеры, которых было не так то уж много, а все окрестные парни половчее, и в первую очередь сами лесники: им все следы прямо в руки. При ста граммах мяса в неделю заячья тушка -- желанный обмен в городке на что угодно. Поэтому лиса была, пожалуй, голоднее людей.
В феврале рассветает поздно, но задолго до того, как только еще чувствуется приближение холодного темного рассвета, она долгими ночами выбегала к берегу озера, и, попробовав снова и снова лед, стояла часами, поджав одну переднюю лапу. Около берега лед был совсем крепок, но дальше лежала предательски тонкая корка. Лиса изгибалась, ступая, чтобы быть легче, но зловещий хруст усиливался, тело уже взвивалось в прыжке назад, хотя в нос еще втягивался тяжелый сладкий запах, несшийся с островка... Только с каждой ночью расстояние между последним шагом и островком сокращалось. Каждой ночью она придвигалась ближе, и, если замерзнет и последняя полынья ...