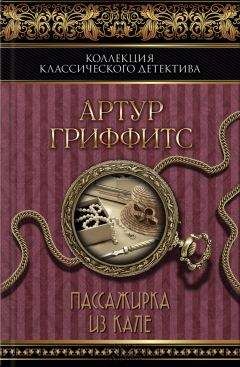Вероника Кунгурцева - Похождения Вани Житного, или Волшебный мел
Шишок вздохнул. А Ваня подумал, что он тут за всех людей ответчик, один он тут — человек, и если решит навьё присудить его к удушению, то, наверно, и нельзя ему противиться… Вон Соловейко‑то по-прежнему не выпускает из рук верёвки…
Тут Алёнка, почти не принимавшая участия в разговоре, подошла к Соловейке, нагнулась погладить по волосам — и что‑то там случилось… Сквозь летящий снег Ваня с ужасом увидел: навка пропала. Только что была — и вот нет её… А в сугроб рядом с мальчишкой упала лиловая юбка и сверху кофта в горошек. Ваня закричал, подбежал — под одеждой оказалась непарная обувь: черная бота и дырявая пуанта. Он схватил Соловейку за грудки и стал трясти:
— Что ты с ней, гад, сделал?!
Соловейко тут же вцепился ему в горло — Шишок, Большак и Перкун бросились от костра к ним. Ваня почувствовал, какая нечеловеческая сила в этих мальчишеских руках, и понял: всё, ему конец. Все загадки разгаданы. Не сможет Шишок ничем ему помочь, и Алёнки, защитницы, нет…
Шишок, как рысь, бросившись мальчишке на спину, принялся отдирать его пальцы от Ваниного горла, Перкун взлетел Соловейке на голову — и стал клевать в темя: Соловейко только сильнее сжимал руки… И вдруг его скосившиеся глаза что‑то увидели — руки разом разжались, он заорал: «Моя рубашка!» Ваня упал на спину в сугроб — и всё никак не мог отдышаться… А Соловейко повторял, как заведённый: «Моя рубашка! Моя рубашка!» Потом, чуть не плача, крикнул: «Большак, на нём моя рубашка!» — одним махом расстегнул верхнюю, домашнюю Ванину рубашнёшку, так что пуговицы брызнули во все стороны, под той и оказалась мешкотная рубаха Соловейки. Большак кивнул:
— Вот и нашлась. А мы всё думали да гадали: где она… Навка, небось, отдала ему… — И, помолчав, добавил: — Теперь он — всё равно что ты.
Соловейко неподвижно сидел в сугробе, закрыв лицо ладонями, а снег падал хлопьями, обращая его в меловую фигуру. Ваня пришёл в себя, но говорить ещё не мог, сипел, как Перкун, попытался спросить: «Где Алёнка?» — но у него ничего не вышло, тогда он ткнул пальцем в тряпичную кочку, оставшуюся от неё. Большак сказал:
— А–а… Следы её, значит, стерлись на стволе‑то… Но где‑то здесь она… Не ушла еще… Навка! — позвал он.
Но вокруг ничего не изменилось, ответа не было… Ваня послушал–послушал и позвал:
— Алёнушка! Сестрица! — стал вглядываться, и показалось ему, что в одном месте снег как будто гуще идёт, закрутился вихрь и сложился в обнажённую снеговую женскую фигурку… Снегурка метнулась к костру, скакнула через него — и снежные брызги ударили Ване в лицо. Он утёрся, как от слёз.
— Вот и отозвалась, — сказал Большак и, мельком глянув на Ваню, пошёл к Соловейке, похлопал его по плечу: — Ладно тебе, парень… Одежонку вон навкину надо бы унести, пока вьюгой не занесло…
Соловейко молча встал, — снег посыпался с него, — сгрёб Алёнкину одежду с обувью, уже припорошенные, и не оглядываясь пошёл к лесу. Раздалось тревожное ржание — стреноженная Лыска попрыгала в его сторону. Соловейко вернулся, размотал лошади ноги, взял за повод и повёл за собой.
— Живей возвращайся‑то! — крикнул Большак ему вслед.
Из леса донеслось:
— Может, живо вернусь, а может, и не живо…
Помолчали. Шишок спросил:
— Не легко найти в лесу одёжу‑то?
— Трудно, — согласился Большак. — Сколь лет гардероб себе подбирали…
— А где же шкаф ваш одёжный али там сундук?
— Дупло летом нашли, там и держим всё, — отвечал Большак.
— А что ж старуха‑то не снабдила вас какой‑никакой одежонкой?
— Да… — начал было Большак и вдруг смолк, сквозь него стало видать лес, снег пошёл сквозь Большака… И вот — упала к ногам Шишка Большакова одежда: солдатские штаны–галифе да футболка, накрыв сапог с кедой — обувь парня. Переглянулись. Шишок покачал головой. Ваня подобрал одежду и, свернув, сложил на обувь. Вдруг Шишок кинулся к тряпичной куче и, разворошив, принялся шариться в карманах… Ваня крикнул: «Не смей!» — «Мел‑то тут, небось, хозяин, — бормотал Шишок. — Счас он без рук, нечем держать мелок–от… Нужон ведь нам этот мел… Куда мы без него…» Шишок вытащил кусок мела, протянул Ване, мальчик взял, — обычный школьный мел, сколько раз он таким на доске писал, — подержал в руке и сунул на место, в карман солдатских штанов. «Им нужней…» — сказал Ваня и сложил тряпьё да кирзовый сапог с кедой в котомку. Шишок посмотрел–посмотрел, потом повесил голову.
А Перкун внимательным птичьим взглядом глядел в сторону, противоположную той, куда ушёл Соловейко, потом молча ткнул туда лапищей. Ваня с Шишком обернули головы и сквозь буран увидели: из леса выметнулась какая‑то фигура… Неужто Алёнушка! — обрадовался Ваня, наверно, взлезла на дерево и опять очертила свои голые подошвы… Соловейко ей мел дал… Но чем ближе придвигалась скользящая заснеженная фигура, тем более непохожей становилась она на Алёнку: уж больно широкая да приземистая…
И вот из снега выметнулась… жаба Марковна, четвёртая из сестёр… Шла старуха не пешочком, ехала на лыжах, палками отталкивалась, за ней тянулось целых два следа — одинаковые вмятые в снегу дорожки. Замотана старуха в большущую оренбургскую шаль, концы — наискось по груди, внахлёст один на другой и сзади на спине узлом завязаны.
Утёрлась старуха от пота, отпыхалась, а глаза так и поблёскивают, как у молоденькой…
— Что ж, Ульяна Марковна, чай кого другого ожидала увидать у огонька? — спрашивает Шишок и кивает на опустевший пень: — Садись, что ли, в ногах правды нет, хоть они у тебя и не простые — лыжные…
Старуха, охая, попыталась нагнуться, чтоб развязать крепления на лыжах — нет, не выходит, глянула на Ваню:
— Поможешь–нет бабушке?..
Ваня, присев на корточки, освободил старухины ноги в подшитых валенках от лыж. Повитуха, как куль, повалилась на пенёк. Растеребила узел на спине, развязала шаль, — так что концы повисли до белой земли, — освободила взопревшую шею.
Шишок вскочил тут с места и, потренькивая на балалайке да подвывая, как Ярчук, исполнил стих–предсказание:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…
Глаза его разгорелись, а может, то отблески костра в них играли, с ходу он накинулся на обомлевшую повитуху:
— Ах ты, жаба болотная, стерва ты степная, падаль дворовая, ты почто на хозяина моего навяков натравила, отвечай? — И, выхватив из костра головешку, затряс ею перед самым носом прижухшей старушонки. Запахло палёным — это загорелась шерсть на ладошке домовика.
— Ой, не надо, не надо, ой, боюсь, боюсь, боюсь, — запищала повитуха девичьим голоском, прикрываясь раздутыми ладонями. — Ой, всё скажу, ой, не трогай мои глазыньки…
— Глазыньки у ей, — проворчал Шишок, опуская головешку. — А у навки — так не глазыньки… Ты, жаба, своими жабьими ручками порешила Валькиных детушек?
И тут Ваня опять увидел, что снег в одном месте пошёл гуще и завились снежинки в нежную девичью фигурку, а рядом завихрилась ещё одна снежная фигура — мужская… Склонились они, вроде прислушиваются, слово боятся упустить…
— Ой, не я, не я, не я, Шишок… Анфиска это…
— Врёшь, карга! — замахнулся на неё Шишок головешкой.
— Ой, я, я, я, Шишок…
— И на Вальку навьё натравила, лярва… Ну‑ка рассказывай, старая хрычовка, всё с самого началу… Всю правду правдинскую.
Марковна понагнулась книзу, спрятала лицо в руках — толстые плечи трясутся, плачет. Тут повитуха подняла лицо, между растопыренных пальцев глаз поблёскивает… Убрала руки — смеётся заливается, вся колышется, ажно щёки трясутся… Ваня опешил. Вдруг смеяться перестала, закугыкала:
— Правду правдинскую, значит, тебе, Шишок, подавай?! А ведь расскажу… Смотри только, как бы не обжечься той правдой‑то…
Старуха деловито воткнула в снег лыжные палки и продолжила:
— Как бросил меня прежний‑то твой хозяин, Серафим Петрович, на ведьму Василиску променял, решила я, — только что из петли меня вынули и воздуху я глотнула, — что не бывать роду Житных на земле… Так‑таки и поклялась себе… И жизнь на это положила — и свою, и чужие… Вот тебе и вся правда.
Тут снежные фигуры метнулись к старухе, завихрились вкруг неё, облепили — повитуха стала от снега отмахиваться, отплёвываться, закашлялась… Прокашлявшись, продолжала:
— Как глянулся мне Серафим‑то, попросила я Анфиску сделать приворотное зелье… Все трое они были мастерицы на этот счёт, да и другое многое умели. Василиска — та, конечно, первейшая из них, даром что самая молодая. Анфиса помогла — завидовала всегда сестре, что та понимает в волховском деле больше неё. Вместе делали приворот — уж такая гадость… Подпоила парня… И так уж я ему полюбилась, так полюбилась — думала, на всю жизнь! Да ведьма эта Василиска и перебеги дорогу. Клялась божилась потом, что ничего‑де не делала, чтоб переманить Серафима, сам‑де он… Так я ей и поверила! Ведьма она — вот и сделала сильнейший против нашего с Анфиской приворот. Анфиса‑то против неё — что! Вошка. Знала я, что не смогу с Василиской открыто соперничать, куды мне!.. Решила затаиться до поры до времени…