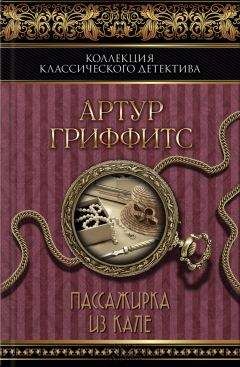Вероника Кунгурцева - Похождения Вани Житного, или Волшебный мел
— Он и сейчас не знает, дурак он, Иван–дурак! — закричал Соловейко. — Я должон быть вместо него, я–а! У–у–у–у…
Соловейко вдруг повалился лицом в сугроб, катался по снегу, бил по нему кулаком. Ваня с Шишком переглянулись. Алёнка подбежала к мальчику, стала по голове гладить, что‑то ласковое приговаривать — и он понемногу утих. Но к костру не пошёл, сидел в стороне и глядел в лес. Лыска, стреноженная, неуклюже скакала к нему.
Замерший Ваня переводил вопросительный взгляд с одного на другого: Большак прятал глаза, Шишок пожимал плечами, Перкун клювом под крылом чесал. Тут Большак поднял глаза и сказал, кивнув на Ваню:
— Подменыш он…
Глава 28. Четвёртая сестра
Ванино сердце упало, как подстреленная птица.
— Как подменыш? — опешил Шишок. — Лешаки подменили?! Это что ж, значит… не… человек мой хозяин?..
— Да человек, человек!.. — махнул рукой Большак. — И — какие лешаки! Тут другое! Мы‑то ведь навяки, неужто вы не поняли?!
— Да поняли! — Шишок тоже махнул рукой.
— Кто это — навяки? — решил выяснить всё до самого дна Ваня.
— Мертвяки! — просипел петух.
Соловейко захохотал в своём сугробе, забарахтался и крикнул:
— Если бы мертвяки! Те хоть жили, прежде чем помереть, а нам не дали… Так сгинули, ни за понюшку табаку…
Большак продолжал, кивая на Ваню:
— Соловейко должон быть вместо него, а он, жихарь, не в свою очередь проскочил на свет. Шустёр оказался… А как Соловейкин черёд пришёл… вжикнули его. Как меня да вон её, — кивнул на стоявшую под елью Алёнку. — Та — ни за что не хотела дать нам жить, уж как старуха её уговаривала… Нет, говорит, Марковна, не хочу, чтоб они жили, и всё тут, не до них мне совсем…
— Какая Марковна? — подскочил Шишок. — Не теряевская? На краю села живёт, повитуха?
— Здесь старуха прежде жила, в Буранове, все дома посносили, а её остался, вот на этом самом месте изба стояла, где костёр наш горит, снесли потом и избу, и старуха ушла… Та к ней сюда наведывалась… Один раз пришла — меня вжикнупа… Второй раз пришла — её вон удалила… — показал на Алёнку. — Да и глазки ей попутно выколола… Третий раз пришла — Соловейке не дала народиться… А этот, значит, живёт… — кивнул на Ваню. — За что ему такое везенье?! Ну чем он лучше нас?
Соловейко лежал, сунув голову в сугроб.
— Так–так–так! — бормотал Шишок. — Теперь понятно, какая это старуха… Ульяна Марковна — вот как её зовут! Третья сестрица Василисы Гордеевны! — кивнул он Ване. — Не родная сестра‑то. Мачехина дочь. А дом, что тут стоял, — отчий дом твоей бабушки.
Ваня силился вспомнить лицо «жабы» Марковны, у которой они ночевали на сеновале в Теряеве — и не мог.
— А хозяин мой, выходит, ваш единоутробный брат?! — воскликнул тут Шишок, до которого не сразу дошло.
И до Вани никак не доходило, он силился понять… Значит, та, про которую Большак всё время говорит, — это его мамка, Валентина?! Большак — его старший брат, Соловейко — младший, а Алёнушка — сестрица?!..
— Брат… Он сам себе брат! — закричал Соловейко. — Нас‑то нет на свете… Так, морок мы, кикиморы… Нежить!
— Да как же вам удалось… — Шишок замялся, — воплотиться? Я гляжу, вы и следы оставляете настоящие людские, а не какие‑нибудь там, и…
Соловейко закричал:
— А–а… всё‑то вам расскажи да доложи… Молчи, Большак!
Ваня поглядел: следов вокруг костра было натоптано порядочно, как раз Алёнушка от ёлки, где до сих пор стояла, возвращалась, оставляя на снегу два разных следа. Ваня вглядывался в её надвигающееся лицо — так вот на кого она похожа, на мать! Вылитая Валентина — только волосы тёмно–русые, глаза студёные, лицо пепельное и костистое… Кисти рук слишком большие, подошвы — тоже, шея жилистая, худущая навка, но если откормить, приодеть… Тоже ведь красавица, да ещё какая! Хоть и глазки слепые… выколотые.
А Большак, достав из кармана свой кусок мела, показывал:
— Да вот он нам помог! Мы туг кружили, — взмахнул рукой, — наше это место, здесь наша кровушка пролилась, хоть и могилок у нас нет… Попугивали старуху‑то иной раз… А к Марковне этой частенько сестра наведывалась, Анфиса, — та вовсе яга лесная, — и вели они свои, человечьи разговоры. А мы с ней, — кивнул на присевшую к костру Алёнку, — подслушивали, глядишь, что‑нибудь про ту вызнаем. Соловейки‑то ещё не было тогда… Вот однажды старые и заговорили про мел, который видимое делает невидимым, и, дескать, есть он у этой Анфисы–яги. И приди мне в голову: а не может ли тот мел обратное сотворить… Нас, невидимых, — сделать видимыми?! Выследили до дому эту Анфису–бабу и украли у ей кусок мела. И что вы думаете — вышло! Вот сидим перед вами — ровно живые… А что следы‑то людские после нас — дак ведь людьми бы мы были, как вы думаете, не лягушами же…
— Может, и мел им отдашь, Большак? — пронзительно закричал из своего сугроба Соловейко. — Попросят ведь сейчас… Мало мы отдали — так последнее им отдай!..
— Не, — покачал головой Большак, — мел не отдам. Всего один кус у нас и есть.На всех — один. Переломили мы его напополам, половина мне, половина — навке. А она потом свой кусок Соловейке сунула… Не весь мел‑то мы у ягишны взяли, эх, жалели потом! А она круг вокруг именья обвела, и всё — не пробиться к ней стало. Стена. Нас испужалась… Мелок этот — одно у нас утешенье!.. У вас‑то он крепко действует, стена вокруг ягишны такая — ни с какой стороны не подступиться: ни с нашей, ни с вашей, и, видать, подновлять круг не надо. А в наших руках мел недолго почему‑то действует, руки, что ли, не такие… Потому торопиться нам надо — успеть след свой оставить на земле. Вот мы и обводим подошвы… Соловейко обычно на брюхе у Лыски следки свои рисует, навка на развилке дуба любит подошвы обводить, а я — где придётся обрисовываю следы. Но вначале надо дверь пробить, прошёл на эту сторону, и тогда уж следы тут оставляй, обрисовал подошвы — и проявился, как вроде человеком стал. Только больно быстро следы–те стираются, снег ли пойдёт, дождь ли, ветер ли — и нет твоего следа, развеялся… А значит, и тебя нет. Тяжело. Потому не часто мы к вам заходим, только в крайних случаях, мел‑то поберечь надо…
И вновь пошёл тихий снег, белыми мухами садился на головы, на плечи навья, домового, птицы, человека…
Шишок подумал–подумал и спросил:
— А ведь, я так думаю, не первый раз к вам хозяин мой попадает?
— Не первый, — сказала Алёнушка и улыбнулась: — Молодец, Иванушка, не проболтался, что был у нас! — Лицо её сквозь двойную преграду снега и огня искажалось, отдалялось…
— А уж не Ульяна ли это Марковна, жаба, сообщила вам летось[87], что у неё ночует Ваня Житный и в лес направляется?! — хлопнул Шишок себя по лбу.
Соловейко вскочил и закричал, чуть не плача:
— Всё, всё им доложите!
Большак пожал плечами:
— Ладно тебе, Соловейко!.. Дело прошлое. Да и чего скрывать‑то — старуха дала нам знать. Спасибо ей…
— Только толку от нас — как от телков… — захохотал Соловейко. — Выпустили змеёныша… Как и ту…
— А разве и Валентина к вам в лапы попадала?.. — спросил Перкун и принялся разгребать снег, что уж он хотел под снегом найти, каких червяков…
— Попадала, — усмехнулся Большак. — Да навка вон пожалела её… Глаза ей та отвела, такой бедной да несчастной прикинулась, куда там нам… Дескать, жить хуже, чем не жить…
— А мы бы, — закричал Соловейко, — за один только день человечьей жизни всё отдали! Безрукими, безногими готовы жить… Безмозглыми, у которых слюна течёт, — готовы. В тюрьме, в одиночной камере, — это ж мечта сидеть–жить! Либо в лагере!.. На всё готовы… На всё! Да нету нам жизни… А ему — есть. Почему так?
— Потом спохватилась сестра, — продолжал Большак, — да уж поздно: близок локоть, да не укусишь.
Соловейко крикнул:
— Я бы ни за что ту не выпустил! — подбежал к Алёнке и закричал: — Дура ты, дура! Она тебя не пожалела!.. Она тебя вона как, а ты вона как… Вывела её, на путь наставила… Иди, дескать…
— Ладно. Дело прошлое… — сказал Большак и кивнул на Соловейко: — Его тогда ещё не было с нами… После уж та его наказала…
Ваня отвернулся, назойливо лезло в голову, что вот эта навка — могла быть его настоящей сестрой и братья могли быть его живыми братьями. Старший — какая защита! Младший, — конечно, не подарок, но кто его знает, каким бы он был, кабы не злость на то, что ему жизни нет. А снег шёл уже хлопьями, оседая на непокрытых головах Большака, Алёнки, Соловейки и Шишка. Снежий пух падал и падал с неба, превращая Перкуна в жертвенного петуха, один гребень алел среди белизны, как кровь.
— Да–а, такого в птичьем роду не бывает, — сказал тихонько петух, — чтоб мать села яйца высиживать, а после давай их клювом долбить…
— Ни в каком роду не бывает! — отрезал Большак. — Только в человечьем! — и потряс заснеженной головой.