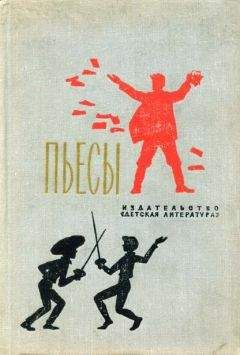Геннадий Мамлин - А с Алёшкой мы друзья
Калитка отворилась, и мы попятились. Но оттуда выскочила не собака, а вышли два человека. Один был толстый с короткими руками, совсем лысый, а другой маленький, худенький. На нём был хороший костюм, но брюки были заправлены в резиновые сапоги. И ещё у него была очень смешная причёска: волосы из-под шляпы опускались до самых плеч.
Дядей Пантелеймоном оказался толстый.
— Ну, будьте готовы, — сказал он нам, как другой сказал бы «добрый вечер». (Голос у него был насмешливый, с хрипотцой.) — За что я, Пафнутий Ильич, юных пионеров уважаю, так это за то, что хозяева они своему слову.
— Похвально, — весело отозвался длинноволосый и потрепал меня по щеке, — ибо сказано: «Блаженны данное слово держащие. — Он достал из кармана две конфетки «Золотой ключик» и протянул их нам по одной. — И воздастся им за это не токмо на небеси».
— Пошли, что ли? — сказал дядя Пантелей и взвалил на плечо большой, но, видно, совсем не тяжёлый мешок.
— А валенки? — спросил Алёша.
— А валенки по уговору за помощь получишь, а не за просто и за так… Ну, ну, Фома неверный, не хмурься. Здесь они у меня, в мешке.
Я хотел спросить, куда это нам надо идти, но дядя Пантелей уже зашагал по тропинке к лесу. За ним пошёл длинноволосый, потом Алёша, потом я.
— Про уговор наш не забыл? — спросил дядя Пантелеймон. — Алёша! У тебя спрашиваю. Не забыл, говорю, про уговор?
— Помню.
— Ну то-то.
— Дело это вечное, богу угодное, — певучим голосом, не оборачиваясь, сказал Пафнутий Ильич, — и не любит хвастовства. И ещё сказано: молчание — золото.
Я дёрнул Алёшу за рубашку, остановил его и спросил:
— Это про какой он уговор говорит?
— Да чепуха. Просил никому не рассказывать, что мы помогать ему взялись.
— А почему?
— А я почём знаю! Говорит, примета такая есть.
— Алёша, а ты слыхал, как этот длинноволосый смешно говорит? Ты думаешь, он кто?
— Да ничего я не думаю про него. Я про валенки думаю. С чего бы это Пантелей валенки в мешок положил? Обманет он нас.
— А я думаю, он из цирка артист. Клоун.
— Старый он.
— Ну, может, теперь на пенсию ушёл. Обыкновенные люди никогда так смешно не говорят.
— Эй! — закричал издали дядя Пантелей. — С тропки не сбейтесь. Я тут направо беру.
Мы побежали и опять пристроились в шеренгу за Пафнутием Ильичом.
Когда мы вышли к реке, уже совсем стемнело. Это было то самое место повыше моста, где река становится узкой и глубокой.
Дядя Пантелей развязал мешок, достал оттуда валенки, зашитые в белую тряпку, и протянул Алёше.
Пафнутий Ильич спросил:
— Так, значит, говоришь, сгорят валенки-то?
— Сгорят, — ответил Алёша хмуро.
— И пьеска-то, полагаю, не светского содержания. Супротив господа нашего всемогущего пьеска-то, говорю. О-хо-хо! В церкви-то, артист, небось отродясь не бывал? Лба перекрестить не умеешь, а бога между тем собираешься в лицедействе своём публичному осмеянию предавать.
— Оставь ты эти разговорчики, Пафнутий, — сказал дядя Пантелей, — не к месту они.
— Полагаю, в заблуждении находишься ты, — ответил длинноволосый, — ибо всечасно и повсеместно должен человек о вере своей радеть.
Он произнёс это с таким серьёзным видом, что я не выдержал и засмеялся.
— А я догадался, — сказал я, — вы клоун.
Пафнутий Ильич приблизил ко мне своё лицо, внимательно посмотрел на меня и вздохнул:
— Все мы, отрок, клоуны здесь, на земле, ибо нелепы и смешны в грехах своих для господа, взирающего на нас… Так-то. А валенки сжигать на костре — занятие пустое. В старину вот богоотступников предавали огню.
— Оставь, Пафнутий! — строго сказал дядя Пантелей. — В другой раз про это поговоришь. Лучше вот сеть мне распутать помоги.
Пока я разговаривал с Пафнутием Ильичом, дядя Пантелей и Алёша вытряхнули из мешка сеть с гирляндой поплавков и теперь раскладывали её по земле.
— И вот ещё что, — оглядываясь по сторонам, сказал дядя Пантелей, — кричать здесь тоже ни к чему. Рыбацкое дело шуму не любит.
Согнувшись, он прошёл вдоль сети, загасил окурок и, засмеявшись, хлопнул меня по спине.
— Ну, хлопец, будем мы сейчас рыбачить с тобой. Ты небось прежде рыбку, как кустарь-одиночка, ловил — на крючок. А мы её зараз артельно — сетью будем из реки выгребать.
— А лодка у вас есть? — спросил я.
— А вот лодки-то у меня, хлопец, и нет. С лодкой бы я и без вас управился тут. Плавать умеешь?
— Умею, только плохо, — признался я.
— Ну и ладно. Будешь здесь с нами, на берегу. А ты, Алёша, давай в воду лезь.
Алёша разделся, пошёл в воду. Дядя Пантелей дал ему верёвку, привязанную к одному концу сети, и сказал:
— Как ногами достанешь дна, так сеть дальше не тяни. Выходи на берег с верёвкой и в траве на ощупь колышек поищи. Я его, не поленился, сегодня утром вбил. Там одинокий куст будет стоять, так колышек этот аккурат за кустом. Привяжешь верёвку и обратно плыви.
Алёша потащил за собой сеть, а мы трое следили, чтобы она не запуталась на этом берегу. Лес в этом месте подступал к самой речке, и, как только Алёша отошёл шагов на пять, его не стало видно. Когда с другим концом сети я подошёл к самой воде, Алёша закричал:
— Достал! Дно!
— Тш-ш! — вдруг зашипел Пафнутий Ильич, оглянулся на лес и покачал головой — Долго ли с таким громоподобным голосом рыбу распугать!
Пока я привязывал камень и относил его в воду, а дядя Пантелей, ловко орудуя своей трёхпалой рукой, закреплял сеть, Алёша вернулся.
— Уф, — отдуваясь, сказал он, — тройным узлом завязал. А дальше что?
— А дальше всё, — ответил дядя Пантелей, — надевай рубашку да топай с приятелем спать.
— Спать? — разочарованно протянул я. — А как же рыба? Надо же нам эту рыбу из сети вынимать?
— А уж за этим мы с Пафнутием Ильичом сами придём. Чуть светать начнёт. А вас, хлопцы, прошу в обед на уху пожаловать ко мне. Про валенки-то, Алёша, не забудь. И про уговор наш тоже.
Пафнутий Ильич перекрестился на тёмную воду и пропел:
— Пошли нам, господи! Ибо не ты ли возвестил: благословенны трудом своим добывающие пропитание себе.
— Спасибо, хлопцы, — сказал дядя Пантелей, — по берегу идите. За мостом тропинка, она вас прямо в лагерь приведёт.
Пафнутий Ильич строго посмотрел на меня.
— А грешников-то, богоотступников в древние времена не миловали. Не валенки сжигали тогда. А самих их, прости господи, бросали в очищающий душу огонь.
Потом он тихо засмеялся и вслед за дядей Пантелеем пошёл в тёмный лес.
— У, кулак! — вдогонку ему прошипел Алёша, а я сказал:
— Какой же он кулак? Он же из цирка. Это он так смешно говорил, чтобы нас повеселить.
— Да я не про него. Я про Пантелея говорю.
— И про дядю Пантелея это ты зря. Ты бы лучше спасибо сказал, что он на рыбалку взял нас с собой.
— Дурак! — ответил Алёша. — Да кто тебя на рыбалку брал? Как сеть ставить — так мы, а как вытаскивать — так: «Мы уж, хлопцы, управимся и без вас». Его в прошлом году даже с работы хотели снимать. Он тут, знаешь, какую лавочку открыл! Он на станции мороженое скупал и в лагерь приносил. А у ребят денег нет, так один тапочки на три порции сменяет, другой новое полотенце за пять порций отдаст. Хорошо это?
— Плохо, — согласился я, — только какой же он кулак? Спекулянт обыкновенный, вот и всё.
— А зачем он десять поросят держит во дворе? Сам он, что ли, будет их есть? А забор у него, видал, какой? Разве честный человек станет за таким забором жить?
— Верно, Алёша, — сказал я, — честный человек не станет глухой забор вокруг дома городить.
Тут я вспомнил, как Пафнутий Ильич пугливо оглянулся, когда Алёша крикнул на другом берегу, и неожиданная мысль пришла мне в голову.
— А я знаю, почему он нас ночью сюда привёл. Разве честный человек станет рыбачить вот так, без костра, крадучись, да ещё других предупреждать, чтобы никому об этой рыбалке не говорили? Никакой он, Алёша, не рыбак, а этот… слово забыл… браконьер. Тот, который рыбу ловит и охотится там, где запрещено.
Алёша стукнул меня по лбу и сказал:
— Голова! Верно, Толь. Он браконьер. И длинноволосый никакой не клоун, а браконьер. И мы с тобой, выходит, теперь тоже ничем не лучше их.
— Я и раньше знал, что сетью запрещено рыбу ловить, да почему-то забыл. Пойдём Валентине Степановне расскажем, какой он тут сторож у нас.
— Это после того, как мы ему сеть поставить помогли? Нет, Толя, я им, этим браконьерам, устрою сейчас весёлую жизнь… Эх, ножика у меня нет! Я там такой узел морской завязал, что в темноте нипочём не развязать.