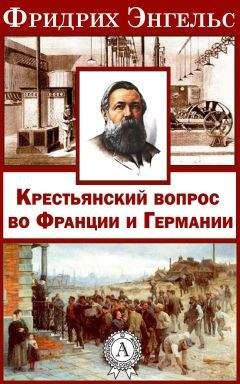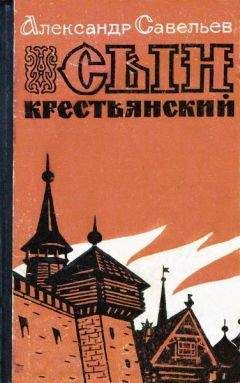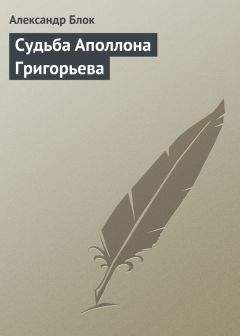Раиса Григорьева - Крестьянский сын
С этими мыслями Костя незаметно для себя уснул. И приснился ему странный сон. Он увидел немцев с картинки живыми. По трое в ряд, по трое в ряд шагают они, множеством своим занимая всё поле, такое же широкое, как в Поречном за околицей начинается. А навстречу им вылетает он, Костя, на белом коне и с саблей в руке. Бумажные немцы стреляют, но всё мимо, никак не попадут. Потом Костя в Поречном. На плечах — погоны, на груди — кресты воинские. Всё село сбегается смотреть на него. Впереди всех — Груня Терентьева…
Когда Груня пела в хате у Корченков, Костя как бы впервые увидел её. Раньше для него все были одинаковы — просто мальчишки, просто девчонки. Теперь осталось всё то же самое и ещё немного по-другому: мальчишки, девчонки и отдельно — Груня. Теперь он больше не передразнивал её, когда Груня с ним как со старшим, здоровалась, называла на «вы» и краснела. А то на уроке, когда все слушают учительницу, засмотрится Костя на Груню. Смотрит и удивляется. Какие волосы у неё — как прошлогодняя солома, которая сохранила ещё тёплый блеск! Такие волосы называют русыми. Вот они какие бывают, русые… А глаза какие у неё: близко-близко поставлены к тонкой чёрточке переносья, округло-длинные, ясно-коричневые. Такие глаза нарисованы на одной из материных икон. В тот вечер, когда Костя со Степкой пришли в хату к Терентьевым и читали письмо с фронта, Грунина мать — её горестный вид надолго запомнился Косте — была в точности как та икона. Такое же безжизненное лицо с огромными округло-длинными глазами, полными тоски. А у Груни хоть глаза и похожи, а смотрят совсем по-другому. И лицо иное: живое, с неярким румянцем, с ямочкой на узком подбородке, милое девчоночье лицо. Оно редко бывает таким беззаботным, как у других, чаще на нём взрослая серьёзность. Может, потому и робеет Костя.
Как-то в начале весны, под вечер, Костина мать выкатила из чулана в сени деревянную долблёнку для угля, почти пустую, и позвала сына:
— Гляди-ко, у нас непорядки какие. Отец воротится, ну-ка ему уголь понадобится, а тут пусто. Давай, милый сын, берись.
Усадила его за работу и ушла куда-то.
Толчёный древесный уголь отец употреблял как присыпку на раны и порезы лошадям, когда коновалил. Заготавливать это «лекарство» всегда было Костиной обязанностью. Тут хочешь не хочешь — делай. Костя взял пест с тяжёлой лиственичной головой, поставил справа от себя глиняную корчажку с крупным берёзовым углём, уселся на пол в сенях, установив меж колен долблёнку, и принялся с силой колотить по углю почерневшим пестом.
Из полуоткрытой двери тянуло предвечерней свежесть Косте было легко и весело работать, и он засвистел на все лады, подражая разным певчим птицам. Свистеть в доме — за это сразу схватишь леща от отца. Да и мать, набожная Агафья Фёдоровна, не похвалит за это. Но ведь никого нет дома. Костя пошевелит рукой уголь в долблёнке, чтоб мельче разбивался, сотрёт с лица пот, смахнёт волосы, упавшие на глаза, и опять постукивает да посвистывает. И не слышит, как во дворе тявкнул Репей, как кто-то несмело взошёл на крыльцо. Лишь когда в узком проёме полуоткрытой двери встал человек, Костя враз смолк. Это была не мать и не учительница Анна Васильевна. Девчонка, а кто, сразу не разглядишь — стоит спиной к свету.
— Отвори дверь-то пошире, — крикнул Костя, — чего жмёшься! — и… похолодел: узнал Груню.
Теперь уж Костя больше ничего сказать не может. И подняться с полу не может. Будто варом его прихватило. Сидит, смотрит во все глаза и молчит. Молчит и Груня.
Она входила сюда без большой опаски. Батрацкая дочка всем чужая родня, а работница-то — она повсюду своя. Привыкла ходить по чужим дворам. Даже собаки редко лаяли неё. Идя к Байковым, боялась только одного — встретить Костю. Очень она его стеснялась, своего отважного защитника.
А тут он — вот он, а больше никого и не видать…
Но вошла, делать нечего, надо здороваться. Поклонившись, по уже сложившемуся между ними обычаю, как старшему, сказала распевно:
— Здравствуйте вам. Мать-то дома ли?
— Нету, — ответил Костя, всё так же не двигаясь с места и остолбенело глядя на неё. — А ты чего пришла?
— Мамка прислала. Твою матерю велела спросить: шаль обделывать бахмарой или зубчиками? Шерсть давала нам твоя мама, шаль связать. — Груня шагнула в сени, ближе к Косте. Отпущенная ею дверь отошла на петлях, светлая полоса упала Косте на лицо. И тут Груня откачнулась назад в испуге: — Чего это с тобой, где тебя так-то?
— Чего? Ничего… — недоумевал Костя.
— Да как же. Ведь ты весь как чугунок чёрный! Тю, да это же… А я-то!.. Ох, не могу! — Звонкие стеклянные горошины смеха раскатились по сеням. Смеялись Грунины округло-продолговатые глаза, сделавшиеся совсем узкими, открыто смеялось лицо, вся Грунина фигурка раскачивалась в смехе, даже старый платок смешно вздрагивал кончиками, завязанными под узким подбородком.
Костя нахмурился, вскочил. И самому не понять было — рассердиться ли ему или засмеяться вместе с Груней.
А та, смеясь, схватила его за руку.
— Где у вас кадочка с водой? Гляди-кося вот.
Она толкнула дверь. В сени хлынул поток закатного света. Сдвинув деревянное полукружье крышки, ребята наклонились над кадкой с водой, и тёмно-зеркальная поверхность её отразила два лица: озорно смеющееся девчоночье с торчащим над головой углом платка и мальчишечье, всё в чёрных пятнах и угольных потёках, с растрёпанными волосами. Встревоженная испачканная физиономия выглядела так смешно, что Костя не выдержал, тоже расхохотался.
Так они стояли, держась за руки у древнейшего в мире зеркала. Вдруг Груня смутилась и отпустила Костину руку.
Костя толкнул кадку ногой, вода заколыхалась, ломая отображение.
Веселье сразу кончилось. Однако прошло и стеснение, сковывавшее Костю в первые минуты. На тихое Грунино «пойду, раз нет тётки Агаши», Костя просто ответил:
— Погоди, она вернётся скоро. Ты побудь, я счас.
Он метнулся на кухню, плеснул из рукомойника себе в лицо и наскоро стёр полотенцем поползшие с него чёрные потёки, пальцами разгрёб и пригладил мокрые волосы. Когда вернулся, на ступеньках крыльца сидела Груня и, обхватив колени, мирно говорила что-то Репью. Рыжий, с белыми подпалинами Репей дружелюбно поглядывал на Груню и помахивал лихо завёрнутым кверху хвостом, выражая ей своё собачье одобрение.
Костя присел рядом с Груней.
— Ты пошто, Грунь, за церковь никогда играть не приходишь? — спросил он, когда немного освоился.
Груня ответила не сразу.
За церковью, в самом центре села, была большая поляна. Дорога, проходящая серединой села, огибала её. Дома и ограды, как бы не решаясь приближаться слишком близко к церкви, оставались по ту сторону дороги. Поляна постепенно превратилась в деревенскую площадь. На ней собирались новобранцы перед отправкой в солдаты, здесь в особо важных случаях созывались сходки. Жарким летом она дожелта выгорала на солнце, была, пыльной и безлюдной.
Сейчас, в самом начале весны, здесь, как завечереет, собирались ребята со всего Поречного. Затевались игры в лапту, в догонялки, в кости. Подсыхающая земля упруго пружинила под босыми пятками, не прилипая, как хорошо вымешанное тесто. Далеко вокруг раздавались весёлые крики, смех, визг. Это девчонки пищали и визжали, как на всём белом свете пищат девчонки. Только Груня никогда не бывала на поляне за церковью. Она не только потому не бывала там, что некогда ей. На поляну за церковь приходила и Лиза Масленникова, другие из богатых домов.
— Разве мне с ними равняться? Понравится ли им-то со мной играть? — объяснила она Косте. — Дразнить ещё как-нибудь начнут, прицепятся покоры всякие искать…
Костя слушал, всё более хмурясь, и сердито прервал:
— Мы, однако, поглядим, кто тебя дразнить станет. Небось живо отучу! А ежели без меня тебя кто обидит, ты так и скажи: «Костя, мол, Байков узнает, худо, мол, тебе будет». Так и скажи, не стесняйся. Ладно? И приходи на поляну, слышь?
Груня не отвечала.
— Это чья же такая лицо в юбку прячет? Чья такая гостья? — услышал Костя родной голос.
В калитку вошла мать.
— Мамка велела… Велела спросить у вас, тёть Агаша, шаль-то обделывать бахмарой или зубчиками? Не уговорились сразу.
— Шаль-то? Да зубчиками, скажи, — ответила мать и с удивлением поглядела вслед прянувшей с крыльца Груне. Чему так обрадовалась девчонка? Что вязать зубчиками? Ишь, как на крылышках порхнула.
Весна
Близился конец учебного года, проверка знаний. А тут ещё Косте и его друзьям прибавились новые заботы: лучшим ученикам второго класса батюшка отец Евстигней велел помогать ему во время церковной службы.
Считалось, что если в эти предпасхальные недели молить о чём-нибудь господа бога, он сразу услышит и исполнит просьбу. Пореченцы несли и несли в церковь замусоленные, мятые бумажки, на которых были нацарапаны имена их близких и просьба к богу: сохранить здравие «сих рабов божьих» или упокоить их души. Больше было записок, поданных за упокой: уже во многие пореченские дворы пришли чёрные вести с фронта, многие солдатские дети остались сиротами. И хотя сам батюшка, и дьякон, и пономарь, и прислуживающие в церкви «матушки» нестройным бубнящим хором считывали с записок имена живущих и усопших со всей скоростью, на какую были способны, холмики записок на подносах всё равно не убывали.