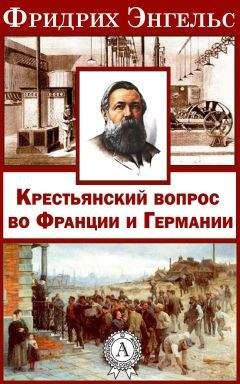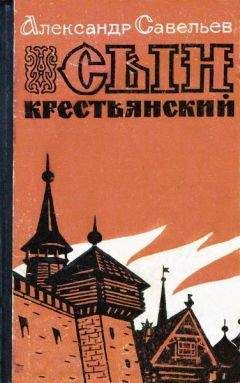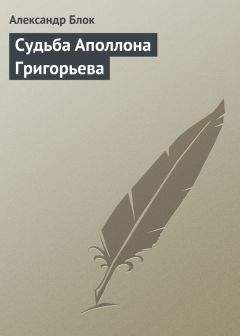Раиса Григорьева - Крестьянский сын
Костя сидит в углу, тихонько протирает повлажневшие в тепле бока гармошки, смотрит и слушает. Карп Семёнович в чистой рубахе, перехваченной нарядной опояской, стоит перед хористами, склонив голову набок, как бы прислушиваясь к чему-то внутри себя. Пушистые пшеничные усы придают лицу важное спокойствие. Незаметное движение руки, и едва слышное, будто из далёкого далека, гудение начинает наполнять хату. Возникают слова, странно беспомощные, полные страха и мольбы.
Косте кажется, если бы эти лохматые, заросшие нечёсаными бородами мужики гаркнули во всю мочь, голоса прогремели бы громом, стены хаты не выдержали бы. Со смутным чувством глядит Костя на Карпа Семёновича, умеющего одним взмахом руки усмирять гром.
Но вот лицо регента сморщилось, один ус вздёрнулся куда-то к уху, рука взмахом обрывает псалом.
— Мокей! — обращается он к плотнику Мокею Головне. — Мокей! Обратно мяучишь, как кот! Для чего ж тебе ухи даны, а? Это ж, боже мой, что такое!
Регент сердится, усы его двигаются на лице так, будто живут сами по себе. Костя с трудом сдерживает смех и уж больше не вслушивается в псалмы.
Спевка кончилась. Тётка Марья воткнула в дыру, просверлю в лавке, свою куделю и принялась прясть. Другие стали кто чинить бельё, кто вязать. Груня, так же незаметно и тихо как умела сидеть в школе, присела у печи с вязаньем. Мужики тоже занялись делом. Один чинит валенок, другой сшивает ремни для конской сбруи. Каждый углубился в свою работу.
Нарушил тишину сам Карп Семёнович.
— А ну, теперь мирскую, — сказал он. — Ну-кось ты, Грунюшка, спой чего ни то.
Груня не заставила себя просить дважды. Положила вязанье на колени. Глубоко вздохнув, обвела всех сидящих взглядом своих ясно-коричневых глаз и словно задумалась на минуту. Затем, уж ни на кого не глядя, запела.
Все смотрели на Груню, на её отрешённое лицо с задумчивыми карими глазами и высоким лбом, полуприкрытым расчёсанными на косой пробор жёлто-русыми волосами, на её спокойно лежащие на коленях руки, тонкие, с крупными, не по возрасту кистями. Смотрели и затаив дыхание слушали её пение.
Смотрел и Костя из своего угла. И ему казалось, будто в эту хату, такую душную от присутствия многих людей, что керосиновая лампа стала помигивать, ворвалась струя свежего ветра и дышать стало легче, вольготнее. Странное, никогда раньше не испытанное состояние охватило его. В груди его будто раскрылись какие-то раньше запертые створки и распахивались всё шире навстречу песне. Волны сладостной теплоты набегали и набегали изнутри и всё не могли заполнить просторную гулкую пустоту, в которой билось сердце.
Только бы не кончилась песня! Только бы пелась и пелась!
Но вот слова перестали вызванивать. Последнее протяжное «и-и-и» потянулось тонкой нитью и совсем истаяло.
Мгновение все сидели не шевелясь. Потом задвигались, руки потянулись к прерванной работе.
— Ну и мастерица! Надо же эдак-то!.. Ровно соловей! — Каждый хотел от себя прибавить похвалы.
— Спасибо тебе, дочка, — сказал Карп Семёнович. — Может, ещё какую споёшь?
— Вам спасибо на добром слове. А я побегу, а то поздно, мама заругает.
Косте хотелось кинуться следом, но он застыдился и остался на месте. Поглядел исподлобья — не догадывается ли кто, что с ним творится. Нет, все заняты своей работой.
Костя растягивает мехи и просто так, без мелодии, перебирает лады, а его старинная, саратовская, с перебором и колокольчиком гармошка тревожно и весело ах-хает, захлёбывается.
— Хороша девчонка растёт! — заметил кто-то. — Матери утешение.
— Эту матерю уж теперь, гляди, ничто не утешит. Без кормильца-то оставшись.
— Известно, вдова — как куст при дороге. Кто ни мимо, всё дёрнуть норовит.
— А сколько их, кормильцев, там гинет, мужики, это же вздумать страшно! — отозвался пришлый солдат Игнатий Гомозов.
Он недавно поселился в этой хате. Корченко приходился ему дальним родичем. К нему добирался Гомозов из самого Барнаула пешком. Пореченцы приветливо встретили бывалого солдата и теперь охотно слушали его рассказ.
— Сколько в окопах зазря пропадают! — продолжал он. — Сколь крови на чужую землю льют! Вот я вам расскажу, как мы однова в атаку ходили… Нет, постой, дай-кось гармошку, паря, я песню спою.
Тяжёлая Костина гармошка показалась маленькой и лёгкой в руках Игната, когда он вышел с нею на середину хаты, под матицу. Все увидели, какой он высокий, костистый и широкоплечий, какие странные у него глаза: широко расставленные на плосковатом лице, под изломанными крыльями бровей. Одно крыло поднято кверху, другое приопущено, и кажется, что круглые жёлтые глаза под бровями тоже один выше, другой ниже и смотрят с пронзительной усмешкой.
Ой, как было дело под Карпатами,
Под Карпатами крутогорыми…
Это была даже не песня, а складный припев-рассказ. Так, может быть, бывальщины сказывали давным-давно, когда Костя ещё не родился.
Слушатели как бы сами перенеслись на далёкий фронт, увидели, как русские офицеры и немецкие офицеры гонят своих солдат друг против друга. Те, увязая в холодном болоте, бегут, стреляют, падают от встречных пуль. А никто — ни русские, ни немецкие солдаты не знают толком, зачем нужно им убивать друг друга. Здесь, в просторной хате пореченского регента, тот же вопрос отразился на лицах крестьян, слушающих песню Игната.
Но вот он передохнул, взглянул в лица сидящих и закончил тихо, уже от себя:
— Вот оно, земляки, как там бывает. Так что не дай бог на эту войну ни своей волей, ни неволею… — Он протянул Косте гармошку и неожиданно весело подмигнул ему: — Верно, паря-гармонист?
Костя не ждал вопроса. Он весь был в песне, в том печальном бою… Как ответить? Сказал, как подумалось:
— Не знаю, верно, нет ли. Самому поглядеть надо.
— Чего, чего? — переспросил лохматый плотник, сидевший ближе всех к Косте. — Самому?
— Вот это да! Во Аника-воин! — смеялись по-доброму, поглядывая на покрасневшего Костю.
«И чего хохочут? — думал Костя. — Сами ничего такого не видели…»
— Самому-то доподлинно на всё поглядеть — оно вернее. Однако, надо думать, пока ты, сынок, дорастёшь до срока, она, война проклятая, кончиться должна. Беспременно!
— Дай-то, господь батюшка, поскорее, — вздохнула тётка Марья и быстрей заработала спицами.
— А што, земляки, каб народ в солдаты не шёл, сколь долго бы воевать можно было? — начал новый разговор Игнатий Гомозов.
— Как не идти народу? Служба царская, — ответил, протягивая смоляную дратву через подошву валенка, молодой крестьянин.
Парню была отсрочка как остававшемуся единственным кормильцем в семье, но недавно вернулся с фронта его брат с круглой деревяшкой вместо ноги, и теперь он со дня на день с тоской и тревогой ждал повестки.
— Служба-то — царская, а могилы — солдатские! — раздражённо возразил Игнат. — Твой братан, Сёмка, много почёта заслужил на той службе царской? Деревянную ногу. Так ладно, что не крест деревянный.
Разговор принимал опасный оборот. Тётка Марья быстро стала свёртывать свою куделю и, поджимая губы под длинным носом, приговаривала:
— Иттить, однако, пора. А то каб с такими-то байками подале не заехать.
В эту ночь Костя долго не мог уснуть. В тёплом сумраке затихшего дома то возникало пение Груни, и тогда незнакомо радостно заходилось сердце, то начинали сверкать в темноте шальные жёлтые глаза дядьки Игната, то звучали горькие его слова: «Не дай бог никому туда попадать ни своей волей, ни неволею…»
Костя столько слышал о той далёкой войне, куда ушёл брат Андрей и много молодых ребят из села. Слышал, как солдаты похваляются храбростью и медалями, слышал, как плачут бабы. Как учительница говорила: «Если бы за отечество там битва шла…» А теперь видавший виды солдат говорит, что лучше не попадать туда. Припомнилась цветная картинка из книжки «Вахмистр Ататуев». Она была разделена на две половины. На одной половинке три немца, весёлые, в новых мундирах, увешанные оружием, вышагивают, высоко поднимая ноги и скаля зубы в широкой одинаковой улыбке. А на другой они же, оборванные и жалкие, понуро плетутся, подгоняемые бравым русским вахмистром.
А что, если бы всё-таки самому добраться туда?.. Как соберут ещё партию рекрутов, так и увязаться за ними потихоньку, а потом и не отставать до самого фронта… А то — как весна настанет, можно и одному убежать или с кем-нибудь из ребят. Вот бы подивились все в Поречном!.. Стёпку надо уговорить, вот кого! Собрались бы вместе с ним по весне — и айда!
С этими мыслями Костя незаметно для себя уснул. И приснился ему странный сон. Он увидел немцев с картинки живыми. По трое в ряд, по трое в ряд шагают они, множеством своим занимая всё поле, такое же широкое, как в Поречном за околицей начинается. А навстречу им вылетает он, Костя, на белом коне и с саблей в руке. Бумажные немцы стреляют, но всё мимо, никак не попадут. Потом Костя в Поречном. На плечах — погоны, на груди — кресты воинские. Всё село сбегается смотреть на него. Впереди всех — Груня Терентьева…