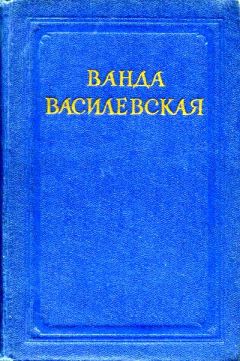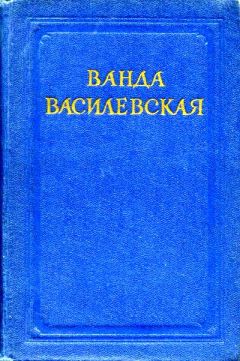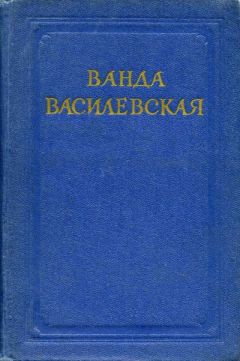Галина Василевская - Рисунок на снегу
Тихон сел на пень, вытер рукавом лоб. Достал из торбы бутылку молока, зубами вытащил пробку, глотнул раз, другой. Холодное молоко обожгло горло. Он сунул бутылку за пазуху, чтоб согреть. Так учила мать.
Вспомнил, что в торбе есть разные вкусные вещи. Вспомнил и сразу почувствовал, как хочется есть. Запустил руку в торбу, долго перебирал там пальцами, а достал только горбушку хлеба и принялся жевать. Окончив, запил молоком, снова сунул бутылку в мешок, поднялся и зашагал дальше, с трудом волоча по снегу ноги.
В небе послышался ровный гул. Тихон остановился, прислушался. Гул приближался. Показались самолёты, чёрные, как вороны. Они летели низко и тяжело гудели. Вероятно, везли бомбы, много бомб. И сбросят они их на наших людей, на наши дома. Дядя Левон говорил, что немцы хотят всех сделать своими рабами.
Тихон не хочет быть рабом.
Дорога вела в деревню. Да какая там дорога? Её давно засыпало снегом, никто по ней не ходил, некому было. И деревни не было. От неё осталось только название — Клепачи — да печи, которые стояли в снегу. Сто двадцать печей. На каждой печке прежде грелись дети, старики. Тогда печи стояли в хатах. Хаты сожгли фашисты. Людей, старых и малых, кого убили, кого сожгли. А юношей и девушек загнали в товарные вагоны и повезли в Германию, в рабство. А печи остались. Уже два года стоят. Когда это случилось, Тихон ещё жил в своих Байках. Байки от Клепачей близко, пять километров. И Тихон видел тогда, как над лесом стоял дым от Клепачей. И все это видели. И тогда многие мужчины из их села пошли в лес, стали партизанами…
Украдкой, чтоб не знала мать, он вместе с Лёнькой ходил поглядеть на сожжённую деревню. По ней гулял ветер, разносил пепел; пахло горелым.
Теперь горелым не пахнет. Но каждый раз, когда Тихон приближается к Клепачам и видит одинокие печи, ему становится холодно…
Враги
— Хальт!
От неожиданности Тихон остановился как вкопанный. Он шёл уже по большаку, накатанному машинами. Большак вёл к шоссе, соединял с ним былые Клепачи. За Клепачами была деревня Лoсосино. В ней ещё жили люди, и Тихон шагал смелее. На случай неожиданной встречи у него было оправдание — побирается мальчонка. Нищенская торба, перекинутая через плечо, была для Тихона как бы пропуском. Никто не обращал внимания на маленького попрошайку: сколько их ходило по деревням!
И вдруг над самым ухом раздалось как выстрел:
— Хальт!
Фашистских солдат было двое. Один из них стал быстро обыскивать Тихона: ощупал карманы, провёл рукой вокруг пояса. Другой на ломаном русском языке спросил:
— Кто? Куда? Откуда?
— Ходил в Лососино, просил подаяния. Да не очень-то подают. — Тихон старался говорить тонким голоском, чтобы казаться меньшим, чем есть. Потом он вспомнил, что в торбе лежит узелок, который Павел дал для сестрёнок. — Там в деревне наша бабушка живёт. Помирать уже собирается. Так последнее отдала на гостинец моим сестрёнкам.
— А с кем ты живёшь?
— С сестрёнками. Двойняшки они. По восемь лет им.
— А тебе сколько?
— Двенадцатый.
— Отец и мать где?
— Померли. С голоду померли. Сами не ели, всё нам отдавали. Вот и померли. А теперь и бабушка собирается помирать.
Тихон говорил чистосердечно и так жалостливо, что ему самому захотелось расплакаться. Рукавом он начал вытирать слёзы.
Немец достал из торбы марлевый узелок, развязал его.
— О, яйки, карашо!
Потом вывернул торбу на снег, на дорогу. Одно яйцо покатилось, словно хотело улизнуть от немца. Но тот схватил его с земли и вместе с куском сала завязал в узелок. Кукол выкинул.
— А ты куда идёшь?
— В деревню, в Байки.
— А, Байки! Тогда иди.
Солдат, который копался в Тихоновой торбе, взял в одну руку узелок, другую положил на автомат, висевший на груди, хлопнул узелком своего друга по спине, и они пошли, посмеиваясь, не обращая больше внимания на маленького нищего.
Виселица
Вдоль дороги темнели столбы. На некоторых из них виднелись белые фарфоровые стаканы-изоляторы. Проволоки не было, её так и не успели навесить перед войной. И теперь столбы стояли как напоминание об иной жизни.
Тихон помнит, как они, сельские ребятишки, целыми днями не отходили от монтёров, как на какое-то чудо смотрели на высокие деревянные круги-шпульки, на которые была намотана проволока. Как им хотелось, чтобы скорей засветились в хатах маленькие лампочки, которые переделывают ночь в день. При панах даже и речи не было, чтобы в село провести электричество… Теперь от времени, от дождей и ветра столбы потемнели.
Впереди Тихон увидел людей. Много людей. Они стояли на одном месте и молчали. Что это за люди? Тихон хотел обойти их, повернуть куда-нибудь в сторону, но они стояли на самой дороге, и он пошёл прямо.
Вдруг какие-то звуки донеслись до Тихона. Словно от сильного ветра скрипели незапертые хозяином ворота. Ветер действительно был. Он гнал вдоль дороги снег и дул Тихону прямо в лицо — казалось, не пускал, предупреждал: вернись назад, уходи отсюда!
Деревня ещё далеко, отсюда не услышишь, как скрипят ворота. Что бы это могло быть? Пригляделся и… даже остановился от неожиданности, даже отшатнулся назад: на столбе висел человек. Верёвка была перекинута через крюк с фарфоровым изолятором.
Никогда в жизни своей Тихон не видел виселиц, не видел повешенных. И он не мог тронуться с места. Ноги словно приросли к земле. Он стоял и смотрел. А ветер раскачивал мёртвого человека, как будто хотел сбросить, а верёвка скрипела: скрип, скрип.
Под столбом стояли двое часовых. Третий гитлеровец увидел Тихона, подошёл к нему и молча подтолкнул прикладом автомата к толпе. Тихон упал, поднялся и, подгоняемый солдатом, подошёл к людям. Он боялся поднять голову и видел только ноги повешенных. Четыре босые ноги. Значит, повешенных двое. Они висели так близко один от другого, что сначала Тихону показалось, будто висит один человек. Тихон боялся взглянуть вверх: а вдруг он знает этих людей? Он не мог отвести глаз от заледенелых ног, припорошённых снегом. Снег не таял. Тихон почувствовал, как у него начали мёрзнуть пальцы на ногах, и стал шевелить ими в бурках, чтобы согреть. Потом заставил себя повернуть голову в сторону, посмотрел на людей.
Вот стоит женщина в лёгком городском пальто, даже без тёплого воротника. В руке держит узелок. Может, из Бреста шла в деревни менять на хлеб свою одежду? Она плачет и платочком вытирает слёзы. А другая женщина низко опустила голову, словно она виновата, что повесили этих двоих.
Ещё три женщины, пожилые, деревенские, переступают с ноги на ногу. По-видимому, стоят они давно и давно замёрзли.
Взгляд Тихона вновь остановился на повешенных, на фанере, висевшей у одного на шее. Фанера длинная. Один конец её доходит до колен, а верхний упирается в подбородок. На фанере написано: «Мы — партизаны, стреляли в германских солдат». Невольно глянул на лица. Узнал и не мог, не хотел поверить. Отвернулся, чтобы не смотреть, чтобы не увидели, не догадались немцы, что он знает повешенных. В ушах зазвучала песня, которую пел сегодня утром в партизанском отряде Коля Козлов. Зазвенел Колин смех, весёлый, беззаботный.
Не знал Коля, когда смеялся, что нет уже у него отца и брата…
По дороге в село шёл старый невысокий мужчина с седой, белой бородой. Гитлеровец и его загнал в толпу. Мужчина снял шапку, и ветер растрепал у него на голове редкие волосы. Гитлеровец что-то сказал. Старик не понял. Тогда солдат вырвал из рук старика шапку и надел ему на голову.
Старик опять снял её.
— Безбожники, нельзя в шапке быть, — сказал он.
— Не безбожники! Бандиты! И ты бандит!
Фашист ударил старика автоматом. Дед не удержался на ногах и упал. Потом поднялся и стал прямо, не глядя на фашиста. Тот поднял шапку и вместе со снегом надел старику на голову. Тихон словно бы почувствовал, как снег начинает таять и стекать знобящими каплями за воротник старому человеку.
До вечера их держали у виселицы. Потом отпустили.
Тихон брёл как во сне, волоча ноги, опустив руки, которые стали почему-то неподъёмными. Он чувствовал себя состарившимся человеком, который прожил долгую жизнь и очень устал.
Тётка Ольга
За бугром показалась труба, потом стреха крайней хаты. Это хата Курачинских, дядьки Ивана, с которым Тихон живёт в одной землянке. Хата Тихона тоже крайняя, только на другом конце села.
Хата дяди Ивана была не освещена. Нигде, ни через одну щёлочку не пробивался свет.
«Может, нет никого?» — подумал Тихон и потянул за дверь.
Дверь замкнута изнутри. Это хорошо. Значит, в хате кто-нибудь да есть, есть кому замыкаться.
Тихон постучал. Никто не отозвался. Он постучал ещё, прислушался. В хате затопали. Звякнула скобка, кто-то вышел в сенцы, и женский голос, голос тёти Ольги, спросил: