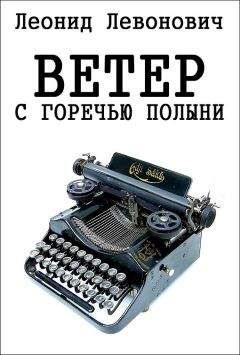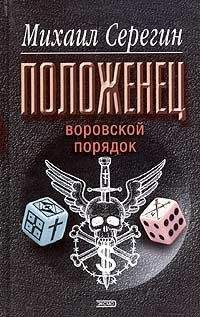Михаил Штительман - Повесть о детстве
— Ты есть, Сема, пролетарская ветвь. Ты, Сема, — сын бесправия!..
Военный комиссар осторожно прервал его:
— Товарищу Полянке поручена работа с молодыми людьми в местечке. Он уже говорил со многими. С тобой решил говорить позлее других. Сам понимаешь почему.
— Да, — согласился Сема, хотя его в действительности обидело, что с ним говорят позже других. — И что же?
— Мы здесь, — заговорил Полянка, — организуем вас на рельсы революции. Сегодня мы впервые будем записывать и, так сказать, формировать боевой отряд коммунистической молодежи. Понял? Явка сюда в семь часов.
— Есть явка сюда в семь часов, — повторил Сема и, повернувшись на каблуках, направился к выходу.
— Постой, — остановил его Трофим. — Ты уже согласен? А зачем? А может быть, это совсем не для тебя?
Сема смущенно молчал. И зачем он поторопился с этим «есть»? Может быть, его нарочно испытывают.
— А вы записаны там? — спросил он Трофима.
— Нет.
— А отец?
— Тоже нет.
— Так вот, — Сема повернулся к матросу, — явки не будет. Я раздумал.
— А не слишком ли быстро? — улыбаясь, спросил Трофим.
«Чего он хочет от меня?» — с тоской подумал Сема, чувствуя, что он попадает в какую-то новую ловушку. И так плохо, и так плохо.
— Ну, слушай, — сказал Трофим, кладя руку на плечо Семы, — это вас записывают в помощники большевиков. Понял? А ты уже давно помощник!
— Правильно, — наконец догадался Сема. — Значит, мне записываться уже не надо.
— Нет, — остановил его Трофим, — как раз тебе и надо. Соберутся такие вот, как ты, помощники, и смотришь — готов отряд.
— И оружие давать будут? — с волнением спросил Сема.
— И оружие.
Обрадованный Сема пошел к дверям, но по пути он вспомнил о чем-то и подошел к комиссару:
— Когда вы мне обещаете папу?
— Не знаю, — пожал плечами Трофим. — Может быть, сегодня, может быть, завтра. Со дня на день.
— Так… — задумчиво сказал Сема. — Хорошо!
Теперь он думал о том, что встретит отца как полагается — вооруженным помощником большевиков. Что бы там бабушка ни говорила, а папа наверняка будет рад!.. Он вышел на улицу и, прогуливаясь, с нетерпением ждал назначенного часа.
Уже стемнело. К дому подошел Антон и, не видя его, пробежал наверх. «Зачем он сюда? — удивился Сема. — Он же старше меня?» За Антоном пришел Бакаляр — холодный сапожник, работающий на деревянных шпильках. «Зачем он сюда?» — опять удивился Сема. Из-за угла показался Пейся в отцовском синем пиджаке, каким-то чудом загнанном наполовину в брюки. Увидев Сему, он остановился.
— Ты что делаешь? — спросил он настороженно.
— Я? Просто так, — ответил Сема. — А ты?
— Тоже просто так.
Они помолчали. Пейся присел на камешек, перелистывая какую-то толстую конторскую книгу.
— Темно, — заметил Сема, — ничего не видно.
— Да, — согласился Пейся и спрятал книгу за пояс.
— Что это за книга? — поинтересовался Сема.
— Так просто.
Они опять помолчали. Сема поправил на плечах шинель и, подняв полы, как это обычно делают военные, поднимаясь по ступенькам, пошел к дому.
— Ты куда? — спросил Пейся, догоняя его.
— По делу! А ты?
— Тоже по делу.
Через пять минут они встретились в одной комнате.
— Ты почему мне сразу не сказал? — прошептал Сема.
— Я забыл.
— Говори, что за книга?
— Тише! Это я записываю всякие истории.
— Ты? — засмеялся Сема. — Интересно! — И, подумав, строго добавил: — Смотри, чтоб про меня ни слова не было. Понял?
— Понял! — повторил Пейся и прижал книгу к себе.
Ровно в семь часов в комнату вошел Полянка.
— Как раз бьют склянки, — строго сказал он и сел за стол. — Антон здесь? — спросил он тоном старого знакомого.
— Здесь, — ответил Антон, подмигивая Семе.
— Пейся здесь? Сема здесь? — продолжал спрашивать матрос, делая какие-то отметки в тетради и очень странно держа карандаш — в кулаке. — Ну вот, — заговорил он, отодвигая тетрадь, — сейчас войдет представитель партии.
Действительно, пришел Трофим и сел на стул близ окна.
— Начнем, — торжественно заявил Полянка, расстегнул всем напоказ свою рубашку и, строго глядя на собравшихся, быстро задвигал желваками. — Сейчас военный комиссар товарищ Березняк скажет доклад о мировой революции, международном положении и нашем районе… Шлюпочка, — вдруг прикрикнул он на Пейсю, — семечки на пол не плюй!
Трофим, улыбаясь, взглянул на матроса и начал свой доклад. Говорил он очень мало, и Сема запомнил что-то о свободе, о том, что рабочий, взяв, ничего не отдаст обратно, что бои еще будут, и, может быть, «нам с вами, — сказал комиссар, — придется стать в ружье. Но мы раньше ненавидели ружье, потому что дуло смотрело нам в лоб, теперь мы знаем, куда стрелять». И говорил он еще что-то хорошее о Семе, что не испугался парень махновца, и советовал всем быть смелыми, держать глаза открытыми, уметь громить противника, как делают это отцы и братья. Семе показалось, что Трофим смотрит на него, и он опустил глаза.
После доклада комиссар сел, лицо у него было простое, спокойное, и Сема почувствовал к Трофиму что-то родственное; хотелось подойти и сказать ему что-нибудь обыкновенное — «здравствуйте» или «который час?». Но встал Полянка и громко объявил:
— А теперь будем принимать в отряд молодежи… Иди сюда. — Он махнул рукой Семе и опустился на стул. — Фамилия?
Сема пожал плечами — что за вопросы, он же сам хорошо знает, — но, соблюдая порядок, ответил:
— Гольдин.
— Товарищ Гольдин, — важно сказал матрос, — кто вы есть? Вы есть сын бесправия и курьер военного комиссара. В то время как ваш отец проливает кровь, может быть, вы хотите держаться около Интернационала. Это можно, — снисходительно согласился Полянка, как будто он сам и есть весь Интернационал. — А в бога вы верите? — обратился он к Семе.
— Не знаю, — признался Сема.
— Этот момент следует выяснить, — продолжил свою речь Полянка, выставляя из-за стола большие ноги в лакированных ботинках. — Теперь вы говорите партии — телом и душой до последнего вздоха!
— До последнего вздоха! — повторил Сема, беззвучно шевеля губами.
— И если что — жизни не пожалею!
— И если что — жизни не пожалею! — повторил Сема, чувствуя знакомую тесноту в груди и приближение слез.
— Как тот коммунист, которого пытали! — закричал Полянка и стукнул кулаком по столу. — Шестьдесят прикладов на его плечи легли — ни слова не сказал! Горячие шомпола его совесть спрашивали — ни слова не сказал!
— Ни слова не сказал, — повторил Сема, стирая рукавом навернувшиеся слезы.
— Стало быть, примем товарища Гольдина, — загремел матрос уже девятипушечным басом. — И пусть будет Сема на манер отца своего!.. Получай, товарищ Сема, бумагу: билетов еще из уезда не прислали. Это тебе пока будет дубликат. Держи и храни его, воин революции!
Сема сел на свое место и, положив на стол бумагу с загадочным названием «дубликат», принялся читать. Буквы прыгали перед глазами, и он ничего не видел… Он пытался разобрать, что говорит стоящий подле матроса Пейся, но он ничего не слышал. Сема разглаживал выданную бумагу, смотрел на Трофима, и страшно захотелось ему, чтоб сейчас же вот вдруг начался пожар или налетели бандиты, и он бы бросился в бой и умер, и все бы потом жалели его и рассказывали отцу, какой он был.
ОТЕЦСема хотел видеть отца. Желание это теперь вспыхнуло в нем с такой необычайной силой, что он не знал, куда деть себя. Он ходил с дубликатом в кармане шинели, и ему некому было показать бумагу. Нередко вечером он оставался дома, лежал подолгу молча в постели и думал об отце. Тоска была такая тяжелая и непривычно большая, что казалось, она перешла к нему от какого-то взрослого человека. Порой он чувствовал даже обиду на отца, который, может быть, не помнит и не любит его. И потому, что Сема часто и тревожно думал об отце, ожидание казалось бесконечно долгим и утомительным.
Но Трофим все же не обманул его. Однажды, это было в пятницу вечером, когда бабушка молилась над двумя горящими свечами, осторожно постучали сначала в окно, потом в дверь.
— Открыто! — крикнул Сема, не вставая с постели.
В комнату вошел незнакомый человек в кожаной куртке с седой головой и большими серыми глазами. Гость улыбнулся и неловко поправил маузер. Несколько секунд бабушка стояла молча, шепча что-то в растерянности, потом вскрикнула, схватилась рукой за голову и подбежала к нему. Плача и крича что-то непонятное, причитая и всхлипывая, она целовала его в щеки, в глаза, в губы, гладила по волосам и тяжело вздыхала. Человек с маузером тоже плакал. Бабушка опустилась подле него на колени и, гладя его худые ноги, заговорила, с трудом переводя дыхание:
— Ты приехал… Я не надеялась дожить до этого дня. Теперь я могу умереть. Единственный мой… Счастье мое… Ты совсем белый, — с тоской произнесла бабушка, — ни одного черного волоса! Где твоя молодость, сын? Где ты потерял ее? — застонала она. Но вдруг, вспомнив что-то, бабушка вскочила и закричала: — Сема, ты здесь? (Побледневший и испуганный, он стоял рядом.) О чем ты думаешь? Почему ты не двигаешься? Это ж твой папа! Твой папа!