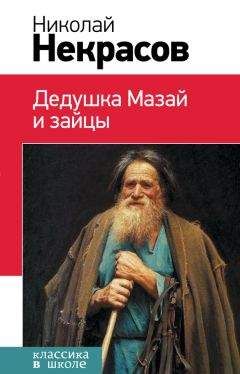Ниссон Зелеранский - Мишка, Серёга и я
— Хорошо хоть, что признаюсь! — уже совсем весело сказал Сергей.
В переулке появилась Аня, и я заспешил ей навстречу. Мишка и Серёга, по-моему, даже не заметили моего исчезновения.
— Что случилось? — спросила меня Аня.
Кажется, все ребята сегодня задавали друг другу этот вопрос. Я невольно улыбнулся и стал объяснять, в чем дело.
Ребята постепенно расходились. Мишка и Серёга стояли в стороне и продолжали выяснять отношения. Но голоса их звучали уже иначе. Они называли друг друга по имени и явно чувствовали себя счастливыми.
Ира Грушева, увидев нас, крикнула:
— Анька, иди сюда!
— Иду! — откликнулась Аня и тихонько проговорила мне: — Я тебе потом одну вещь скажу. Не уходи без меня, ладно?
— Конечно, — ответил я.
Я каждый раз не помнил себя от радости, когда Аня при посторонних разговаривала со мной вполголоса.
У нас с Аней сложились какие-то непонятные отношения. На следующий день после первого свидания я пришел в школу чуть ли не одновременно с уборщицами. Почти час я торчал в коридоре, ожидая Аню. Едва она появилась, я пошел ей навстречу, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не побежать. Заглянув ей в глаза, я сказал значительно:
— Здравствуй. Как ты сегодня спала?
(Вторая фраза у меня тоже была заготовлена: «А я до утра не мог заснуть».)
Аня, по-моему, немного смутилась.
— Хорошо, — сказала она. — Почему ты спрашиваешь?
— Допустим, что хорошо, — сказал я с тонкой улыбкой. — Как мы сегодня — в семь у Пушкина?
— Не знаю, — сказала Аня торопливо и покосилась на дверь класса (почему она вдруг стала бояться, что нас кто-нибудь увидит?). — Ты мне позвони потом, ладно?
— Договорились… Кстати, я вчера тебя не успел спросить. Чем я похож на Платона Кречета?
Аня сердито фыркнула, бросила: «Ничем!» — и окликнула выглянувшую из класса Иру Грушеву.
Весь этот день она словно избегала меня. На перемене чуть только я вставал, чтобы подойти к ней, она хватала под руку кого-нибудь из девочек и уходила в коридор. Лишь после уроков мне удалось остаться с Аней наедине. Это было в вестибюле. Обнаружив, что мы вдвоем, она беспомощно оглянулась, словно отыскивая очередную подругу.
— Извини, пожалуйста, — быстро сказала она, — я тороплюсь.
— Я тебя провожу.
Я хотел сказать это очень твердо, но получилось просительно.
— Нет, нет! — торопливо сказала Аня. — Сегодня я не могу.
Увидев у дверей Иру Грушеву, она радостно закричала: «Ирка, подожди!» — и убежала.
Почему она себя так вела? Может быть, она презирала меня за то, что я ее не поцеловал? Но ведь после того, как она мне это разрешила, у меня просто не было возможности!
Два дня я ходил сам не свой. Вот и у меня случилась безответная любовь. Я утешал себя тем, что многие великие люди тоже оказывались в таком положении. Байрон хотя бы. Лермонтов, Блок. Даже Маяковский. Я доказывал себе, что у нас с Аней разные характеры, и мы все равно не могли бы жить вместе. Пройдут годы, и я в конце концов женюсь на другой.
Я повторил про себя все известные мне стихи о несчастной любви. Особенно мне нравилось четверостишие:
Я не знаю, много или мало
Мне еще положено прожить.
Засыпать под ватным одеялом.
Ненадежных девочек любить.
Аня была именно ненадежной девчонкой. И поэтому я решил вырвать из сердца свое чувство к ней. Я старался не смотреть на нее, говорил ей грубости, а раз даже заявил, что «Платон Кречет» просто слабая пьеса и я не понимаю людей, которым нравится главный герой.
В этот день, после уроков, Аня на ходу бросила мне:
— В семь у Пушкина…
И убежала, не дожидаясь ответа. Я снисходительно усмехнулся и сказал вслух:
— Нет, Анечка, я не из тех, кого можно поманить мизинчиком.
Уже в половине седьмого я топтался у памятника Пушкину.
Но свидание не получилось. Я все время думал только о том, чтобы поцеловать Аню. Это нужно было сделать во что бы то ни стало.
Когда мы подошли к подъезду, Аня, будто почувствовав мою решимость, торопливо протянула мне руку.
— Зайдем в подъезд, — буркнул я.
— Не надо.
— Зайдем.
— Гарик, не делай глупостей, если не хочешь, чтобы мы поссорились.
Так мы и расстались. Просто как знакомые.
Назавтра мы встретились снова. Провожая меня, мама предупредила:
— Возвращайся не позже восьми: придет Миша.
Спускаясь по лестнице, я услышал, как мама, выйдя на площадку, крикнула:
— Слышишь, не позже восьми!
В этот вечер Аня была особенно веселой.
— Гарик, ты сегодня почти красивый, — сказала она. — Пойдем в кино.
Мы проводили вместе так мало времени, что тратить его на кино казалось мне преступным. Я сказал, что гораздо лучше было бы посидеть где-нибудь, поговорить друг о друге, о том чувстве, которое нас соединяет.
Аня немедленно возразила, что ей надоело разговаривать.
— Все равно, — сказал я, — на шестичасовой сеанс мы опоздали, а в восемь я должен быть дома.
— Будешь в девять. Или в десять.
— Не могу.
Аня надулась и через несколько минут, холодно попрощавшись, ушла.
Наша любовь так и не стала счастливой. Аня вела себя странно: то не замечала меня, то сама предлагала встретиться. Когда мы гуляли по улицам и я начинал упрекать ее в непостоянстве, она делала круглые глаза и говорила:
— У меня же еще есть дела! Как ты не понимаешь?
Я почему-то не мог ей не верить.
Но как только выяснялось, что мне надо быть дома не позже девяти (или в крайнем случае в половине десятого), Аня на глазах менялась. Она становилась холодной, насмешливой и очень далекой. Она называла меня маменькиным сынком и говорила, что если я всегда буду торопиться домой, то она перестанет со мной встречаться.
В такие минуты я старался выглядеть взрослее, говорил басом и даже пытался быть грубоватым.
Однажды мне удалось издали показать Ане Марасана. Она проводила его жадным взглядом и шепотом сказала:
— Гарик, когда мы его арестуем?
Я замялся, но, вспомнив рассказ «Последнее дело Шерлока Холмса», ответил:
— Арестовать его не так уж сложно. Но мы спугнем всю банду. Немножко терпения.
Аня с сомнением покачала головой, но маменькиным сынком больше меня не называла.
Ужаснее всего было то, что я никак не мог выяснить, любит ли меня Аня (если бы я точно знал, что она меня не любит, мне, наверное, было бы легче). Когда я прямо спрашивал ее об этом, она сердилась и говорила:
— Если бы ты мне не нравился, я бы с тобой не встречалась.
— Одно дело — нравиться, — мрачно возражал я, — а другое дело — любить.
— Оставь, пожалуйста! Ну, люблю.
— Тогда почему смеешься?
— Потому, что ты смешной. Будешь приставать, я уйду.
В отчаянии я загадывал: если мне раньше попадется навстречу женщина, — значит, Аня меня любит; если количество шагов до булочной окажется четным, — значит, не любит. Навстречу мне раньше попадалась женщина, но количество шагов до булочной оказывалось четным…
И все-таки… Все-таки я был счастлив, когда Аня при посторонних заговаривала со мной вполголоса.
Между тем Мишка и Серёга весело рассмеялись и, видимо, совсем забыв обо мне, пошли вверх по переулку, толкая друг друга плечами. Усмехаясь, я посмотрел им вслед.
— Значит, в одиннадцать? — крикнул я. — Договорились, кто из вас имеет право зайти?
— Кто-нибудь зайдет, — сказал, оглянувшись, Серёга. — Не боись.
— Собери все для секции, — добавил Мишка. — Чтоб нам тебя не ждать.
Услышав про секцию, Аня насторожилась. Когда Мишка с Серёгой ушли, она, торопливо попрощавшись с Ирой, подошла ко мне и весело спросила:
— Значит, в секцию идешь, да?
— Да, — сказал я небрежно. — Тебя это удивляет?
Я был очень горд своим решением записаться в боксеры. Тем, кто невнимательно следил за моим перевоспитанием, могло показаться странным, что Игорь Верезин, далеко не храбрец, идет в секцию, где каждый день нужно драться. Честно говоря, временами я испытывал некоторый страх. Но отступление было невозможным. Как бы я выглядел, если бы «Комсомольская правда» узнала, что я испугался стать спортсменом!
Кроме того, секция должна была сыграть решающую роль в моих отношениях с Аней. Когда я буду приходить на свидание с мужественными шрамами на лице, Аня не посмеет назвать меня маменькиным сынком.
Я уже видел себя в модном коротком пальто, в ботинках на толстых подошвах и с сумкой, едва не волочащейся по земле.
— Да, — сказал я Ане небрежно. — А что?
— Никуда ты не пойдешь! — с торжеством сказала Аня. — Я взяла билеты в театр. На утро. Ты рад?
— Я рад, но понимаешь…
Лицо Ани сделалось обиженным и заносчивым.
— Любой мальчик из нашего класса, — сказала она ледяным тоном, — был бы счастлив, если бы я пригласила его в театр.