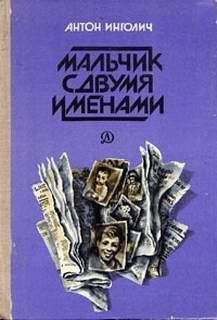Константин Махров - Сердца первое волнение
— Ну, ну… — сердито помычал Степан. — Легче, без напоминаний…
— Мы будем друзьями, — сказал Анатолий.
— То есть? — спросил Степан.
— Никаких «то есть»! — решительно молодым баском заявил Анатолий. — Разве не ясно?
— Ясно! — улыбнувшись, сказал Степа. — Видишь ты… как заговорил!
— Да уж так. Хорошие спутники и мыслями хорошими обогащают. И думаю я, что именно тебе, Степан, в первую очередь надо в институт идти, а не мне. Ты — башковитый, мысль у тебя конструктивная, смелая. Вон какую штуку мы сооружаем, — Анчер кивнул на почти готовую модель спутника, — по твоим расчетам и чертежам! Так вот и надо дать скорее большому кораблю большое плавание. А я догоню. Думаю я, что до института мне нужно годик-другой поработать.
В гущу друзей влетела Лорианна Грацианская в черной конькобежной шубке, отороченной заячьим мехом. Шоколадное мороженое — гонорар Черемисина — уже было расхватано товарищами и успешно съедено.
— Где журнал? Где журнал? — спрашивала она. — Скажите на милость, вышел, мой душечка! Вышел! Да какой нарядный!
— Душечки у тебя кинозвезды!
— Точка. С ними покопчено. Я бесповоротно и окончательно переключилась на всемирное остроумие. Вот что, в следующем номере я займу полжурнала своими «страницами». Такие замечательные, такие интересные есть «странички», что просто… пальчики оближешь! Отчасти под этим углом зрения я читаю теперь серьезные книги. Расширяется кругозор. И отыскиваются шедевры. Вот, например — из жизни великого нашего полководца Суворова… Однажды он вызвал к себе офицера, очень болтливого… Степан! Что ты так сверлишь меня глазами? И почему так… намекающее вздыхаешь? Да… очень болтливого; закрыл двери на замок и под видом величайшего секрета сказал, что у этого офицера есть злейший враг, который на каждом шагу ему пакостит. Офицер встревожился и начал перечислять своих врагов, а Суворов махал руками:
— Не тот, вовсе не тот!
Затем он на цыпочках подошел к окнам и дверям, как будто проверяя, не подслушивает ли их кто, и шепнул офицеру:
— Высунь язык.
Офицер повиновался. А Суворов сказал:
— Вот он… Вот кто твой злейший враг!
Спрашивается, разве не замечательно? Чудесненько! — с победным выражением на пылающем от мороза лице закончила Лорианна.
— О, Лора-и-Анна! — зазвучал иронический тенорок Степана Холмогорова. — Был бы жив Суворов, он бы не того офицера, а тебя заставил высунуть язык.
— Нет, нет, Степан, — сказала Маргарита Михайловна, — ее язык приобретает другие качества; разве не слышите?
— Что, получил? — подступила Лора к Холмогорову. — Получил? Скептик… уникальный!
— Ребята, — сказала Маргарита Михайловна. — Хочется мне поведать вам одну новость. Да не рассердится ли Надя Грудцева?
— Я? — удивилась Надя. — Ничего не понимаю.
В недоумении она оглядела всех, и вдруг, увидев кого-то, тихо вскрикнула. Мама!
Надя юркнула за ребят, мгновенно сообразив, что сейчас произойдет сугубо серьезная беседа, и перед мамой откроется картина: две тройки за вторую четверть. Ох, попадет!
— Да вижу, не прячься, — сказала Елена Дмитриевна, подходя вместе с Агнией Павловной и Кларой к живой, шумной ватаге. — Здравствуйте, Маргарита Михайловна!
Упоминание имени дочери встревожило ее.
— Видите ли, друзья мои, — продолжала Маргарита Михайловна, ответив на приветствие Елены Дмитриевны, — я без особого разрешения Нади посылала ее рассказ в журнал «Молодость». Вот ответ… Рассказ одобрен, будет напечатан.
— Качать ее! Качать!
Сильные, дружные руки подбросили Надю Грудцеву в воздух.
Гремит штраусовский вальс. На катке — танцы, оживление, шум. Надя проносится в паре с первым школьным конькобежцем — Степаном Холмогоровым. Оказавшись возле Маргариты Михайловны, разговаривающей с Еленой Дмитриевной, она слышит:
— Надя? Она стала сдержанней. И учится не плохо, могла бы лучше. По физике — «три», по английскому — тоже.
Разговор — серьезный; Надя заставляет своего партнера перенести орбиту движения поближе к Маргарите Михайловне. Глаза мамы полны тревоги, мамин голос не предвещает ничего хорошего.
— Я так и знала! Что мне с ней делать? Ума не приложу!
— Значит, мы прочитаем твое произведение в «Молодости», — слышит Надя голос Степана. — Это хорошо! А потом — после школы — в Москву, в Литературный?
— Нет, не в Литературный. Наверно, на филологический, — отвечает Надя. — Теперь это меня интересует больше всего. Всерьез и надолго!
Надя смеется и смотрит на Степана синими счастливыми глазами.
— Смотри, смотри, — говорит она. — Владимир Петрович, на коньках… Приглашает Маргариту Михайловну… А мне за тройки — ох, будет мне на орехи!
ЛИНИЯ ОГНЯ
Был уже поздний вечер, а заседание учкома все шло и шло. К столу выходили ученики пятых, шестых классов и однообразно, еле слышно говорили о том, почему они за первую четверть получили двойки. Члены учкома, ученики старших классов, задавали им одни и те же вопросы, потом — выступали, то есть разносили за шпаргалки и подсказки.
Борис Новиков, выбранный в учком от десятого класса, сидел на первой парте, у окна и хмуро сдвигал темные брови. Все ему не нравилось, вся эта бесконечная проработка, и особенно — речи друзей. Требуют, чтобы ребята учились честно, добросовестно, а сами?.. Разве не прибегают они, уважаемые старшеклассники, к этим средствам спасения, появившимся, как показывает художественная литература, сотни лет назад, вместе с первой школой, и здравствующими и поныне? Когда кто-то уж очень рьяно и свирепо стал пушить очередного двоечника, Борис взял слово:
— Знаете, ребята… Бросьте! У нас у самих рыльце в пуху… Что там стыдить этих учеников? Эти средства… они — руки жгут и душу грязнят, вот что! Я знаю, я не чище других. Давайте с себя начнем. Говорил он путано, но искренне. Многие стыдливо опустили глаза.
Когда заседание кончилось и в комнате остались только старшие, Дина Ваганова, рослая, остроглазая девушка в бордовом платье, с розовыми щечками и высоким лбом, над которым вились колечки светло-русых волос, подлетела к Борису и выпалила:
— Бесподобно! Я только сейчас открыла у тебя еще одну положительную черту, Боренька. Тебе, оказывается, дан «витийства грозный дар». Но вспомнила я… голубенький конвертик! — Дина весело рассмеялась и быстрым привычным жестом тонкой руки взбила свои русые колечки.
Историю с голубеньким конвертиком знали все. Не так давно Борис доказывал у доски теорему об объеме пирамиды. Он ошибался, путался, ему грозила двойка. Учитель потребовал, чтобы он сел за первую свободную парту и подумал еще. Борис сел; через некоторое время к нему поступил голубенький конвертик, в нем — листок с доказательством теоремы… Борис получил четверку.
— Что ж… было… — смущенно ответил он Дине.
— А в дальнейшем? Ну, если судьба опять притиснет к доске, если будет наклевываться двойка?
— Пожалуй, — нет… — ответил он, поразмыслив.
Дина рассердилась:
— Ну, знаешь, это не честно. Красивые слова. Я окажу о себе: пользовалась, и еще, наверно, буду.
— Но ты же выступала против?
— «Выступала»! Выступать — одно… А необходимость иногда заставляет…
— Довольно! — хлопнув портфелем по столу, сказал Борис. — Хватит. Вот это — действительно не честно.
Он накинул шарф на шею и вышел.
— Подумаешь! Воображает! — бросила вслед ему Дина.
Она понимала, что справедливость не на ее стороне, но, встав на одну позицию, хотя бы и неверную, не могла — из-за самолюбия или упрямства — отказаться от своей точки зрения. Тем более — кто же не пользуется посторонней помощью? Злясь на себя, она то заплетала, то расплетала кончик своей косы.
Яша Рябинов, в продолжение всего заседания читавший брошюру об исследовании Антарктиды советскими путешественниками, сказал недовольно:
— Законфликтовали. Не могли разрешить противоречия мирным путем.
— А ты, ты как думаешь? — в упор спросила его Дина.
— По данному вопросу я хотел бы свое мнение зарезервировать. М-м… Интересно другое. Скажите, Динес, почему Борис Новиков в последние дни стал мрачен и угрюм, как телеграфный столб под дождем? Что с ним?
— Откуда я знаю? — ответила Дина. — Возомнил… Подумаешь, Гамлет какой!
Что с ним? Едва ли на этот вопрос ответил бы и сам Борис.
Ничего особенного, что могло оказать на него сильное действие, резко изменить все в его жизни, не произошло. Но с некоторых пор он стал замечать, что на многое он начал смотреть иначе, словно бы другими глазами, и стало как-то неловко за себя, даже стыдно. Он увидел, например, что учится неважно, что все знает поверхностно, что и тетради у него — неряшливые, грязные, с загнутыми углами, почерк — ломаный, с эдакими непостижимыми завитушками. Все спешил, все хотел делать поскорее. А чего добился? Стало оставаться больше свободного времени, а растрачивал он его бесполезно, глупо.