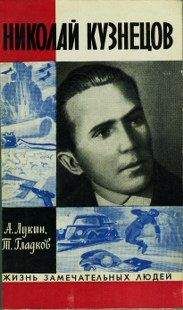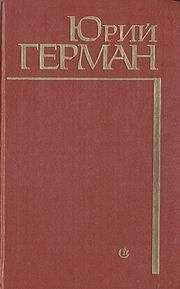Яромира Коларова - О чем не сказала Гедвика
Да, так о чем же это я говорила? Ага, поехали мы, значит, дневным поездом, и поесть нам было негде, перед отъездом я всегда волнуюсь, но как только сяду в купе, успокаиваюсь. После первой же станции я предложила перекусить, у меня были с собой отбивные, я их до последней минуты в холодильнике держала, чтоб не испортились.
Гедвике дали в дорогу сверток. Казалось бы, что тут плохого, но у меня даже слезы на глаза навернулись. Взяла я этот пакет, вынула из него два бутерброда с сухой колбасой, два треугольничка сыра, два яйца, на крону печенья и несколько зеленых яблочек, и так жалко мне ее стало. Было в этом детдомовском завтраке что-то такое грустное, казенное, что и словом не выразишь!
А как эта худышка уплетает, вы себе и представить не можете: и отбивную взяла, и пирожок, без всякого смущения, а когда чай пила, то было видно, как каждый глоток по ее горлышку катится. Кожа у нее прозрачная и совсем не загорелая, хотя уже август был на исходе, но не бледная, а скорее розоватая, губы ярко-красные, придет время — она, может, и похорошеет, если малость окрепнет и реснички подкрасит. Некоторым такие необычные даже нравятся.
И за едой она без устали тараторила, чирикала, как воробышек:
− У нас в детдоме сегодня тоже были биточки, биточки с картошкой, салат из огурцов и фруктовое пирожное.
− Ты любишь пирожные?
− Ужасно. А больше всего трубочки. Папа мне иногда и по четыре штуки покупал.
− И ты съедала?
− Все четыре сразу.
Она улыбнулась и вдруг погрустнела.
− Он теперь в больнице, но меня к нему не пускают.
− Да, верно, ведь детей пускают только с пятнадцати. Значит, через три года. Но к тому времени он уже выздоровеет.
Я знала из ее бумаг, что у него дела плохи, но разве можно ребенку все рассказывать, она еще слишком мала, чтобы знать правду.
− Папа приходил бы ко мне каждое воскресенье, но что делать, ведь он охранял пана президента.
К счастью, нас никто не слышал, от жары все клевали носом над книжками или газетами, а в детдоме меня познакомили с ее документами, прежде чем отдать на мое попечение.
Бог ты мой, чего только этот негодяй не наплел! А еще бедняжка показала мне карточку, он содрал ее с какого-то удостоверения, и на ней все как на ладони: мордочка узенькая, губки бантиком, на лбу кудряшки, какой там мужчина, скорей на бабу похож.
Девочке я его похвалила, конечно, ишь какой франт, говорю, а она вздохнула: хоть бы волосы у нее, мол, были как у него.
− У тебя тоже красивые волосы, — постаралась я ее утешить, — теперь, между прочим, в моде гладкие прически.
− Вот если бы у меня были черные, как у Саши. Саша ужасно красивая, а как загорает — до черноты.
Вспоминала о какой-то Гите и еще о ком-то, угощала меня леденцами, которые на прощанье насовали ей ребятишки. У нее был маленький чемоданчик, весь потертый и перепачканный, в нем она прятала сувениры, всякие мелочи, подаренные подружками, я и смотреть не стала, мое мнение такое, что и дети могут иметь свою личную жизнь. Может, это неправильно, но мне и за собственными детьми противно было подглядывать, и, слава богу, выросли, Енда не обманул моих надежд, а Катка, та, правда, любит повеселиться, но и ей мне приходится доверять, куда денешься.
— Гедвика, девочка моя дорогая, — говорю я ей, — я знаю, папу ты любишь, и это прекрасно, но ты пойми, что мама твоя разошлась с ним не от хорошей жизни, лучше ей эту карточку не показывай, спрячь ее подальше.
Она уставилась на меня своими удивительными глазами, ох, чего мне стоило выдержать ее взгляд, лучше не спрашивайте, потом долго смотрела на фотографию и наконец спрятала ее в чемоданчик под разорванную подкладку. Захлопнула крышку и положила на нее руки.
А минуту спустя уже снова весело выкрикивала, чирикала обо всем, что видит вокруг, прижималась ко мне и грызла зеленые яблоки. Только в конце пути вдруг сказала:
— Знаете, чего мне хочется? Чтоб дорога не кончалась, чтоб мы все ехали и ехали, и все дальше и дальше.
И в голосе — такая печаль! И еще страх. Конечно, она боялась, что ж тут удивительного, бедная девочка впервые в жизни должна была встретиться с родной матерью, своей собственной мамой, вы понимаете? И для взрослого это не пустяк. А у меня в голове — будто метлой повымели, никак не могу придумать, что бы ей такое сказать, как бы подготовить ее к этой встрече.
— Ничего не бойся, Гедвика, мои нас наверняка встретят, я сыну телеграмму послала.
Она села в уголок, положила голову мне на плечо.
− Теперь уж не спи, видишь, какой лес, Прага совсем близко. Потом она умылась в туалете, и я переодела ее в нарядное платье.
− Вот видишь, как тебе к лицу, они полюбят тебя, не волнуйся. Она слегка улыбнулась, вцепилась в мою руку, как клещами, и уже не отходила ни на шаг. Сын ожидал на перроне, я с облегчением вздохнула: шутка ли, чужой ребенок да еще чемодан, сумка тяжелая и сетка, ведь с пустыми руками не приедешь, а народу везде тьма-тьмущая.
На машине мы доехали до самого места, в Остраве-то у нас район получше, но и тут ничего, дом хороший, скорей всего кооперативный, на лестнице светло-голубые резиновые дорожки, на площадках фикусы, видно, за порядком жильцы здесь следят.
Когда мы поднимались, слышно было, как Гедвика дышит, коротко и быстро, будто затравленный заяц. Ее волнение передалось и мне.
Я позвонила. Дверь открыла она, то есть ее мать. Молодая, стройная, хорошо одетая, ну, в общем, такая женщина, на какую посмотришь и сразу подумаешь: до чего же ты сама толстая, вспотевшая, растрепанная, одетая невесть как.
— Добрый день, — сказала она, — будьте любезны, переобуйтесь.
Наклонилась и подала нам тапочки.
Мы переобулись. При этом я боялась даже взглянуть на Гедвику, чтобы узнать, чувствует ли она то же, что и я, так же ли у нее замирает сердце или она еще маленькая для этого?
Вы понимаете, через двенадцать лет видит свое родное дитя и говорит: будьте любезны, переобуйтесь, представьте себе, будьте любезны, переобуйтесь! Может быть, оно и лучше, чем душещипательная сцена, может, так она прятала свое волнение, я вовсе не хочу ее обижать.
Гедвику она оставила в прихожей, а меня провела в комнату, я всегда гордилась тем, как мы нашу квартиру обставили и какая у меня чистота и порядок, но тут я поняла, что живу-то, собственно, в настоящей дыре. Все в комнате сияло, как будто бы здесь был другой воздух, другой свет, другие краски. Да, мышонок попал в красивую норку.
— Она здорова? — спросила ее мать. — У меня ведь двое детей, Катержинке еще и трех не исполнилось. Я кипела от злости:
− Гедвика ведь не из больницы приехала, вот вам бумаги, медицинскую карту из поликлиники перешлют, распоряжение уже сделано.
— Сколько я вам должна?
— Нисколько, за все платит государство.
Я сказала это нарочно с нажимом, потому что она, хоть и придвинула мне стул, сама продолжала стоять, не предложила даже кофе, а ведь хорошо знала, что мы в дороге без малого целый день, а Гедвика выехала еще раньше. Я, конечно, и без ее кофе обойдусь, но приличия соблюдать все же надо.
— В таком случае благодарю вас, — сказала она, — ничего другого мне не остается.
И открыла дверь.
Гедвика стояла в прихожей на том же месте с чемоданчиком в руке. Она чуть меня не повалила, бросилась мне на шею и — в слезы! Ее мокрую мордашку я до смерти не забуду.
— Веди себя хорошо, Гедвика.
Оторвала ее от себя, на лестнице вытерла слезы, ей и себе, я просто вся обревелась, но что было делать, ведь не у чужих же я ее оставляла, а у родной матери, должно же все-таки что-нибудь дрогнуть в этой красивой холодной даме, Гедвика хорошая девочка, и мать, конечно, привяжется к ней.
— Что с тобой? — спросил сын. — Я ведь жду. Может, рюмочку тебе поднесли, ты так шатаешься?
— Поехали быстрее, — сказала я, и Енда засмеялся. Я вообще-то в машине ездить боюсь, а тут — только бы поскорее уехать и не думать об этом, ведь в конце концов это всего лишь работа, другие после работы отдыхают, дело сделано, ребенок у матери, и я могу быть свободна, заслужила свой отдых.
Но в тот раз никакой радости от поездки к сыну я не получила, в ушах у меня все звенело: «…будьте любезны, переобуйтесь».
Мать:По своей воле! Да, я взяла ее по своей воле, сама согласилась, но что мне оставалось делать, если муж занимает такое положение? Многие нам завидуют, ждут не дождутся, чтоб он оступился! Мы не можем себе позволить судебный процесс, да еще из-за ребенка.
Какие там законы, для нас нормы совсем другие, чем для остальных. Разве я могу подать заявление об алиментах в Национальный комитет? Отец Гедвики не платит ни кроны, но муж мне не разрешает ничего предпринять. Он убедил меня, что не стоит позориться из-за каких-то двух-трех сотен крон.
Муж мой — прекрасный человек, он никогда ни в чем не упрекал меня, сказал только, что за глупость приходится иной раз расплачиваться более дорогой ценой, чем за подлость. Но ведь за мою глупость расплачивается он, и это мучит меня, все же совесть у меня есть.

![Николай Лейкин - Наши за границей [Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно]](/uploads/posts/books/225932/225932.jpg)