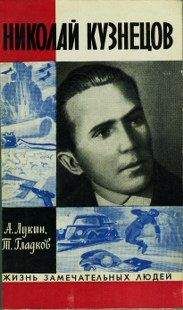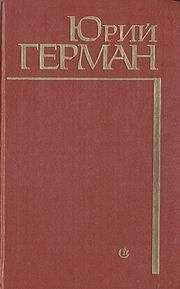Яромира Коларова - О чем не сказала Гедвика
— Гедвика, — говорит Удав и протягивает мне пакет, перевязанный золотой ниткой, за ней веточки елки и омелы, я укололась о проволочку, пакет большой, с трудом обхватываю его, в этот момент мама вскрикнула, потому что он накинул ей на плечи шубу, воротник пушистый и мягкий, таких красивых зверей, наверное, не бывает и на свете, и маме идет, очень идет. Она повисла у него на шее, вся раскраснелась, а он смеется и говорит, а мне, мне что же? Ага, вот!
Я уже ничего не вижу, распаковываю свой подарок, сердце бьется, бумага шуршит, не могу развязать, перекусила нитку, разворачиваю… пальто. То самое пальто, которое мне примеряли, и сапоги, которые я ношу уже две недели, поэтому сегодня я не могла их найти.
Здесь ужасно воняет бенгальскими огнями, я задыхаюсь, кашляю и выхожу, они там кричат и визжат и облизываются, а я тихо иду на кухню.
Сажусь на стул и кашляю, здесь стоят блюда с печеньем и фруктами, от ярких красок больно глазам, локтем я попала в грязную тарелку, по ней растекся студень.
— Тебе опять плохо?
Бабушка пришла ко мне. Я чищу рукав, она намочила полотенце в теплой воде и помогает мне.
— Эти сапоги стоили триста с лишним, Гедвика, у тебя же не детский размер.
Я чешусь.
— Платье колется.
— Какая ты чувствительная.
Я вытираю очки, а она раскрывает пакет, который получила, достает оттуда сотню и говорит:
— Возьми, пусть у тебя будет хоть это от меня.
Я молчу, протираю очки, а она кладет сотню на стол, берет блюда и несет их в комнату.
Я вижу эту сотню и хочу оставить ее, пусть лежит, как перешитое пальто и сапоги, что я ношу уже две недели, но я беру ее потому, что не могу ехать без денег.
Теперь я точно знаю, что сяду в поезд и поеду, я знала это давно, только, видно, не понимала этого.
Надеваю свое старое пальто и туфли, выхожу, двери дома хлопают за мной, и я рада. На улице сыро, холодно, тихо. Здесь никого нет, за окнами горят цветные огоньки, а на одном балконе я вижу красивую птицу. Но она мертвая и висит вниз головой.
Хорошо, что электричка только до Опавы, мне страшно хочется спать, В скором надо было следить, чтобы не пропустить станцию, там было жарко, я боялась, что у меня под ногами поезд загорится, так там топили.
В электричке холодно, я не знаю, сколько мы простоим на вокзале. На больших часах не вижу, а своих нет. Лимонада не было, только кофе и пиво, я купила пиво в бумажном пакете, страшно хотелось пить. Пиво жутко горькое, но я одним духом выпила целый стакан. Теперь у меня тяжелые ноги и глаза слипаются.
Но это ничего, вздремну немного, а в Опаве, конечно, проснусь, когда будут все выходить. В Катержинки идет автобус, деньги есть, я потратила только на билет, пиво и сосиску.
Попрошу, чтобы ему разрешили выйти, раз меня не пускают, пойдем вместе в кондитерскую, сегодня платить буду я. И скажу: спокойно заказывай себе два кофе, денег у меня хватит.
И еще скажу ему: ты думал, я поверю этой сказке про генерала, а он засмеется — я знаю, Гедвика, ты умница, никто тебя не проведет.
И мы станем жить вместе, я могу убирать и готовить, кофе сварю, булку или пирог куплю, а горящее мороженое и студень нам ни к чему.
— Вставай! Спишь как убитая, мы чуть не повезли тебя обратно в Остраву.
Мигом выскакиваю из поезда. Когда же я уснула? Ноги затекли, я их отсидела, и холодно было, а здесь дует, ветер чуть не сбил меня с ног.
Можно было пальто и сапоги все-таки взять, хоть не мерзла бы, но пусть они ими подавятся, мой папа купит мне лучше. Может, его и правда сделают генералом, тогда он купит мне и шубу из пушистого меха, и мне всегда будет тепло.
Авось по пути согреюсь, надо было все-таки взять хоть шапку и шарф, подниму воротник, как папа.
Дорогу я нашла легко, даже спрашивать никого не пришлось, не хотелось рот открывать, чтобы пивом не пахло. Здесь магазин открыт, куплю мятные конфеты, тогда смогу говорить.
Соображаю, ведь правда?
Можно было взять в карман финики, или печенье, или апельсин, но пусть обжираются со своими Маречеком и Катержиночкой. Катержинка из Катержинек, вот это да, надо бы рассказать Блошке.
Если его еще когда-нибудь увижу. Но, наверное, мы с папой переедем в Прагу, генералы ведь живут в столице.
Ого, какая громадная больница! Как же я папу здесь найду? И такая печальная. Все здесь мрачное, не удивительно, что папа тоскует, и дома печальные, и деревья, и вороны, они печальнее всего.
Надо найти какую-нибудь сестричку, она мне посоветует, где его искать. Раз его почтальон находит, то и я найду.
— Чего тебе?
Тьфу, как я испугалась, окошечка-то я и не заметила. За ним сидит старичок, смотрит одним глазом, и рот у него кривой, может, он тоже псих.
— Кого ищешь?
Скажу ему, может, он знает папу.
— Покорный? Что? Альберт? Покорный Альберт? Покорный, говоришь?
Глухой он, что ли? Шаркающей походкой идет к каким-то дверям, там, значит, проход. Но мне гуда не попасть, через окошко ведь я не пролезу.
— Эдита, Покорный Альберт, это не тот? Тот вроде был Покорный?
— Конечно, тот, из-за кого Ярек выговор получил.
— Можно ей сказать, что повесился?
— Кому?
— Да тут какая-то дочка. Из семьи, верно.
— Вы недослышали, у него, кажется, семьи не было. У Покорного не было никого.
Оба выходят из дверей. Старичок и сестричка.
— Это ты спрашивала Альберта Покорного? Молчу.
— Кто же ты?
— Никто.
Убегаю. Они что-то кричат мне вслед, но я ничего не хочу слышать, потому что не существую. У него не было никого, значит, я никто. Никто.
Вот обманщик, вот врун! Я, конечно, никто. Сначала пишет глупости, а потом преспокойненько на меня плюет. Генерал, так я и поверила. Наобещал мне бог знает чего, а потом взял да и отправился на тот свет. И не было у него никого, говорят, никого, а обо мне и упоминать не к чему, он от меня отказался, стыдился меня, как и она.
И вообще мне его ничуточки не жаль. Пусть будет мертвый, раз он такой. Я о нем думала каждый день, а он обо мне даже не вспомнил.
Садится туман. Это хорошо, по крайней мере никто меня не увидит и не услышит, может, я совсем в нем потеряюсь, как теряются деревья, и кусты, и дома, а от автомобилей остаются только тусклые огоньки, и ничего больше.
Я иду все время совсем одна по мокрой дороге, которая никуда не ведет, все на ней и вокруг нее исчезает, и я тоже растаю и исчезну, и никто обо мне не вспомнит.
Съем еще конфету, пока она не растаяла вместе со мной, конфет жалко, и двадцати крон жалко, конфета растает во рту, и ничего от нее не останется.
Здесь какие-то дома, господи, как ноги болят, гудит автобус, это он мне, странно, я осталась, а туман рассеялся. Это просто невероятно, какая красивая витрина. Как из сказки про двенадцать месяцев, кругом зима, вокруг замерзшая холодная слякоть, я еле держусь на ногах, а за стеклом весна. Жаль, что здесь столько света, надо напрягать глаза, это сирень, возможно ли? А вот этих цветов я не знаю, не могу узнать, вон там ландыши, и остальные цветы тоже белые.
Белые, как я.
Однажды я попросила тушь и накрасила брови и ресницы, и Пржемек сказал: молодец, коровушка, теперь ты девчонка, как все.
Что там делают ребята, интересно, который час? На улице ни души, наверное потому, что рождество и так холодно. Этим цветочкам, видать, тоже холодно, они такие же печальные и так же съежились, как и я. А какие красивые!
Взять бы мне хоть один стебелек ландыша с собой, он звенел бы, а я шла бы за ним, и он бы отвел меня домой. Только не в настоящий дом, а в детский.
Но приходится идти самой.
Руки суну в карманы, закоченели от холода. Что это там, такое твердое и холодное, а, кошечка, белая кошечка, которую дал мне Блошка. Давным-давно, когда я была еще совсем глупая.
Она помещается в ладони целиком. Тебе холодно, кисонька? Потерпи, не бойся, теперь я найду, ты не бойся, мы дойдем, ведь мы вместе, — значит, дойдем.

![Николай Лейкин - Наши за границей [Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно]](/uploads/posts/books/225932/225932.jpg)