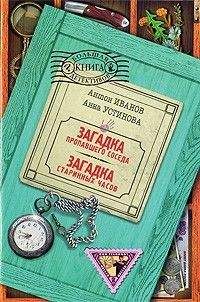Альфред Вельм - Пуговица, или серебряные часы с ключиком
Выехав за околицу, он увидел кого-то на лугу. Идет и качает головой, будто он безмерно счастлив. Ну конечно, Отвин! За спиной — старый школьный ранец. Отвин что-то крикнул и помахал рукой, но Генрих только прищелкнул языком, и Орлик припустил рысью.
Генрих ехал к Леониду. Вез ему письмо. Оно лежало за пазухой, и сейчас, когда лошадь шла рысью, Генрих чувствовал его кожей. Чужое совсем письмо, конверт — треугольничком… А как это оно добралось сюда из далекого какого-нибудь уголка огромной русской страны!
В лесу Орлик перешел на шаг. Генрих глубоко вдыхал прогретый солнцем и пахнущий смолой воздух. Куковала кукушка, а когда он подъехал к ручью, он услышал и зяблика. Письмо, которое он вез, было первым присланным сюда, в Пельцкулен, Леониду.
Выехав на небольшую полянку, Генрих увидел пасущегося Гнедка. Конь поднял голову, заржал. Генрих соскочил, снял уздечку, седло, положил на землю. От этого места было всего несколько шагов до лабаза. Генрих стал подкрадываться к нему, стараясь оставаться незамеченным. Но наверху никого не оказалось.
— Леонид! — крикнул он.
Никто не откликнулся.
По круглым перекладинам Генрих спускался вниз. Между высокими соснами виднелись березки, а кое-где и бук. Отсюда сверху виден и большой луг, куда часто выходили кормиться косули. Тихо было кругом. Свистнул дрозд. Генрих ходил по полянке и все звал:
— Леонид! Леонид!
Как славно насвистывал дрозд! Генрих спустился к ручью и вдруг увидел сапоги Леонида. Он стал звать, бегал, искал, а дрозд все свистел и свистел. И вдруг он засвистел: «По долинам и по взгорьям».
— Вон ты где, Леонид! Я тебя видел.
Леонид сидел на суку старого бука и болтал босыми ногами. На коленях лежало двухствольное ружье.
— Ты знаешь, я мог бы пари держать, что это дрозд свистел. Петушок. А я тебе принес кое-что. Вот! — Генрих расстегнул рубашку и вручил Леониду письмо.
12Солдат сразу узнал крупный почерк своего деда. Это встревожило его. Взяв в руки ружье, он спустился вниз, присел у комеля.
Сколько деревень они прошли! По каким только дорогам их не мотала война! Сколько зла они повидали! Но почему-то его никогда не покидала вера, что родную его деревню война обойдет. А теперь — это письмо! Нет, не обошла, не обошла!..
«Ленечка, дорогой ты наш, единственный! — читал он. — Ты только не волнуйся, я тебе все по порядку. Ты только не волнуйся…»
Мальчик сидел рядом с солдатом. «Как там твоя Наташа?» — хотел он спросить, но, взглянув на Леонида, на его черные глаза, с ужасом смотревшие на листок бумаги и все быстрей и быстрей пробегавшие строчки письма, испугался и промолчал.
«…Мы со старым Герасимом и вырыли могилку, — продолжал читать солдат. — Больше никого и не осталось в живых. Во всей деревне ни одной избы — они всё пожгли, душегубы проклятые! Один Герасимов дом чудом уцелел. Ты уж прости меня, Ленечка, старика, за то, что суждено нам было в живых остаться с Герасимом… Молил я их, на коленях молил, чтобы смилостивились и меня пристрелили…»
Мальчику, сидевшему рядом, солдат показался сейчас похожим на ворона. Черные глаза добежали до последней строчки и остановились. Мальчик приметил скатившуюся слезу.
— Ты что, Леонид?
Внезапно солдат вскочил. Вид у него при этом был такой, как будто он вот-вот убьет кого-нибудь… Вскинув ружье, он разрядил оба ствола. Снова зарядил, выстрелил. Слезы катились градом, а Леонид все заряжал и стрелял. Стрелял до тех пор, пока не осталось ни одного патрона. Тогда он швырнул ружье на землю, сам упал рядом и забарабанил по земле кулаками, весь трясясь от душивших его рыданий.
Потом они вместе пошли к лошадям.
— А ружье? — сказал Генрих.
Но солдат не отозвался, и Генрих сам побежал назад и повесил себе через плечо большое и слишком тяжелое для него ружье.
Они ехали верхом по берегу ручья. Снова куковала кукушка и зяблики пели в листве…
Мальчик немного отстал от солдата. Неожиданно тот поднялся в стременах и закричал во всю мочь:
— Пошел! Пошел!
Жеребец взвился на дыбы и сразу — в галоп! За ним поднялась туча пыли. Долго еще из нее слышалось: «Пошел!»
Генрих натянул поводья, придерживая Орлика. Большое ружье мешало ему скакать следом. Он смотрел на облачко пыли, как оно быстро приблизилось к деревне и потом еще долго висело между крышами.
Около кузницы все еще толпились ребята. Но теперь они все смотрели на него, будто зная: что-то случилось! Да и то сказать — за спиной ведь у него было настоящее ружье!
Генрих видел, как люди бежали по барской лестнице. Женщины — ломая руки и визжа, будто в доме вспыхнул пожар.
Он отвел свою лошадь на конюшню, привязал и Гнедка, стоявшего у больших яслей. Слышал, как по двору пробежали женщины, но, что они кричали, не разобрал.
Тогда он отправился в барский дом. Там он увидел, как Мишка и Леонид борются друг с другом. У Леонида в руках был автомат, и он рвался вниз, а Мишка удерживал его, пытаясь отнять автомат. В конце концов Леониду все же удалось вырваться.
В эту минуту явился Николай. Он прикрикнул на Леонида и загородил ему дорогу. Генрих стоял в стороне, плотно прижавшись к стене. Он видел, как сверкали черные глаза Леонида, как он рванулся к боковому выходу, но Мишка удержал его за гимнастерку. Очень страшно было оттого, что Леонид размахивал автоматом. Прибежал и Борис, но и он, как и Генрих, стоял, прижавшись к стене.
Все вместе они отняли у Леонида автомат, и теперь он размахивал кулаками и бил сапогом в стену, но это уже не было так страшно. Николай кричал на Леонида, а Мишка уговаривал его тихо и внятно. При этом они шаг за шагом подталкивали его к подвалу, который все здесь называли бункером. В конце концов Николай задвинул тяжелый засов за Леонидом. Снаружи было слышно, как запертый пытается сломать дверь: он отбегал, а потом с разбегу наваливался на нее.
Они сидели в желтом салоне. Никто ничего не говорил. Мишка нагнулся, чтобы поднять с полу письмо. Прочитал и передал Николаю. Николай, прочитав, передал Борису.
Вечерело. Скоро они разошлись, как будто у каждого были какие-то дела.
— Мишка, зачем вы заперли его в бункер?
Мишка, не ответив, подошел к окну.
— Я знаю, — сказал Генрих. — Это фашисты убили Наташу…
— И Наташу, и мать, и другую сестру…
— Боже мой!.. И маму? И маму?
Солдат барабанил пальцами по стеклу.
— Зачем вы его заперли в бункер? — еще раз спросил Генрих, глядя на фотокарточку девушки…
Ночью вдруг раскрылась дверь. Никто не спал. По шагам они поняли — это Леонид. Он сломал дверь и пришел сюда. Потом они услышали, как он лег на свое место.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Сквозь сон Генрих слышит, как в парке поют птицы. Он приподнимается: в комнате никого нет. Тогда он медленно натягивает сапоги, потом жует хлеб с салом и луком.
Теперь уже все знают, что Наташу убили. Приходили солдаты из соседней деревни, расспрашивали Бориса или Николая. Молча смотрели, как Мишка возится с винтиками и колесиками. А старый Антоныч, прежде чем выйти, постоял перед фотокарточкой и перекрестился. Дмитрий принес из лесу три свежие сосновые шишки и положил около Наташиного портрета.
Позавтракав, Генрих отправляется на конюшню. Нравится Орлику этот легонький седок, нравятся ему и хлебные крошки, которые он всегда достает для него из кармана. Подобрав их бархатными губами с ладони Генриха, Орлик опускает пониже голову, чтобы мальчику легче было наложить сбрую.
Генрих затягивает супонь, выводит Орлика во двор и едет в лес. Он решил принести Наташе семь сосновых шишек.
Справа и слева от дороги все желто — цветут одуванчики. Лес усыпан сосновыми шишками. Генрих придирчиво отбирает самые красивые — они недавно раскрылись и потрескивают своими колючими лепестками.
Карманы его полны, за пазухой — тоже шишки. Выехав на берег озера, Генрих видит Леонида — тот с лодки удит рыбу.
«Четвертый день подряд он на лодке в озеро выходит! — думает Генрих. — А может быть, еще букетик желтеньких цветов нарвать?» Шишки расцарапали Генриху кожу, каждое движение причиняет боль. Впрочем, он гордится тем, как стойко он переносит ее, и говорит себе: «Это ради Наташи!»
Генриху жалко Леонида: ведь он не может больше ходить на охоту — Николай собрал все ружья и запер в комендантской. А что, правда Леонид расстрелял бы всех фашистов? Мишка-то говорит, что нет. Но Леонид говорит, что расстрелял бы. «Больно очень будет, если я сейчас соскочу на землю», — думает Генрих. И наклоняться будет больно. И он, Генрих, тоже считает, что расстрелял бы. Может, сегодня и не расстрелял бы, а четыре дня назад наверняка бы расстрелял. Может, и половину деревни расстрелял бы…
— Тпррр, Орлик!
Осторожно Генрих поднимает ногу над крупом лошади и соскакивает. И сразу же опускается на колени — так ему почти не придется наклоняться.