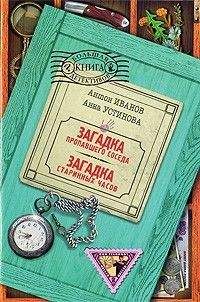Альфред Вельм - Пуговица, или серебряные часы с ключиком
…— Да, уж это была щука, скажу я тебе, Леонид!
Солдат слушал рассказ мальчика, не сводя глаз с пробок, тихо раскачивавшихся рядом с плоскодонкой.
Потом они долго молчали. В конце концов солдат спросил:
— Товарищ, кто, по-твоему, будет фашист?
Генрих подумал о фрау Сагорайт, подумал и об отце Сабины, который, когда он выносил большую скрипку из деревни, сорвал с себя значок со свастикой. Подумал о Матулле, о Бернико. Подумал и о себе, и о своих приятелях, как они гордились форменной рубашкой гитлерюгенд, как громко распевали в строю.
— Об одном человеке я могу дать клятву, что он не был фашистом, Леонид. Это дедушка Комарек.
Ближе к вечеру они подплыли к домику рыбака. В нем все еще никто не жил, семья рыбака так и не вернулась. Тем временем отсюда унесли всю мебель, сняли двери с петель, выдрали рамы, а в одной комнатке даже выломали половые доски. Вокруг домика так сильно пахло сиренью, что даже трудно было дышать.
Они загнали лодку в камыши, чтобы с берега ее не было видно.
15— И ты, значит, не знаешь, матушка, кто у нас в деревне большевик?!
Матушка Грипш, держа в поднятом фартуке красные стебли ревеня, зашла в дом.
— Я женщина старая, о политике знать ничего не хочу.
— Ладно, хоть и знать ничего не хочешь, а все равно — это неправильно.
— Ишь ты! Я и кайзера пережила, и этих демократов, и Гитлера. Ну, а теперь вы тут всем заправляете…
— Не веришь ты, значит, в большевиков?
Матушка Грипш высыпала красный ревень на стол, шаркая, подошла к кухонному шкафу и достала нож из ящика.
— Будь у меня сейчас ложка сахарного песку, я бы суп из ревеня сварила, а сахара нет, значит, ничего и не сваришь.
— Принесу тебе сахару. Поговорю с Мишкой и принесу.
Генрих любил забегать к старушке Грипш. Должно быть, так и у «бабушки» было, думал он. Она так же хлопотала у печи, и юбка на ней была такая же, с разноцветными заплатками.
— Поговорю я с Мишкой. А ты вот подумай, может, ты знаешь, кто тут был большевиком? Понимаешь, пропадаем мы совсем.
Каждый день прибывали новые беженцы, всем надо было есть, все хотели поскорей устроиться.
Генрих с Николаем объехали все поля — всюду сорняки, картошку никто не сажал.
— Ну сообрази ты: должен тут большевик быть! Мы точно знаем — должен!
Они сидели за столом и ели ревень. Старушка громко чавкала, и ее беззубый рот двигался так быстро, как Генрих еще никогда не видал.
— Никто и не говорил, что не было у нас коммунистов.
— Значит, был.
— В Испанию он уехал, — вдруг выпалила старушка. — Незачем ему было в Испанию ездить, проиграли они там войну.
— Убили его, матушка Грипш?
— Добрый он был человек. Только вот жену тут одну оставил, а сам в Испанию уехал.
— Убили его, матушка Грипш?
— Цепочку-то, что на моей козе, он мне даром сделал.
— Он кузнецом был?
— Альбертом звали. На кузнице работал.
— Убит он или жив?
— Это кто как рассказывает: один так, другой эдак.
— Значит, не убит?
— Да мало ли чего говорили, сыночек. Говорили, что генералом он стал. Потом без вести пропал. А то — и что русский генерал он и будто еще командует. Живой, значит…
— Это у нас в деревне говорят, что он генералом стал?
— Может, и правда оно, что он генерал, — ответила старушка, хотя сама она в это и не верила.
— А меня спросить: наверняка генералом стал. Скажи, жена его у нас здесь, в деревне?
— Где ж ей быть?
— Да ты скажи, она правда в нашей деревне живет?
— Жена Матуллы это.
— Жена Матуллы?
— Семь лет она ждала, а от него никаких вестей, вот…
— Ты правду сказала — это жена Матуллы?
Советские солдаты молча слушали рассказ Генриха, когда он, вернувшись и поудобней устроившись в желтом кресле, сообщал им последние добытые новости. Тихо вошел Борис и так же тихо сел в одно из кресел. Мальчик выделял в своем рассказе больше всего то обстоятельство, что разыскиваемый коммунист был кузнецом, и вел все повествование так, как будто он в самом деле стал русским генералом.
— Но, понимаешь, Николай, пропал, пропал без вести.
Сержант встал и прошелся по комнате.
— Нам нужен коммунист сейчас, — сказал он.
Немного погодя Генрих все же решился:
— Знаю я одного большевика, Николай. Давно уж хотел тебе сказать! Это такой большевик, такой большевик, какого больше не найти. В революцию был в Петрограде… А этого Ошкената ненавидел, смерть как ненавидел. Всегда был против капиталистов. И феодалнстов.
— Почему раньше ничего не говорил? — спросил сержант.
— На Лузе он был, — продолжал рассказ Генрих, — и ноги себе обморозил. Русская бабушка…
— Почему ничего не говорил?
— Тоже пропал без вести.
В тот день Генрих рассказал солдатам все, что знал о дедушке. И как он шел впереди их маленького обоза. Но у него, Генриха, с дедушкой Комареком были и секретные разговоры, и тогда они вдвоем шли позади всех. Мальчик подробно описал тот день, когда они потеряли друг друга.
Слушая, солдаты примечали, с какой любовью Генрих говорил о старике.
Мишка достал газету и оторвал кусочек для цигарки.
— Ты — Хозенкнопф! — сказал он.
Теперь каждый из солдат оторвал себе по клочку газеты, насыпал табаку…
И задымили.
Вечером Генрих прикрепил большой плакат к воротам пожарного сарая. Он повернул плакат и на белой стороне написал:
Ищем большевика, который чего-то прячется.
Пусть зайдет в комендатуру.
С большевистским приветом! 16В дверь тихо постучали. Генрих подумал, что это кто-нибудь из беженок, и приподнялся. Но оказалось — Хопф, управляющий имением.
— Здесь нет коменданта? — спросил он.
Это был тот человек, который когда-то нес большую скрипку на спине. Отец Сабины.
— Нет коменданта? — Он поздоровался, отвесив Генриху низкий поклон и приветливо оскалив зубы.
Генриха больше всего напугало, что это был отец Сабины. Он торопливо вскочил с соломы и стал натягивать сапоги.
— Комендант никс дома. Комендант ехать лошадь город.
Но тут Генрих заметил, что с Хопфа пот катится градом.
Заметил он, и что шляпа, которую бывший управляющий держал в руках, дрожит, и что под мышкой у него свернутое одеяло.
— Зачем ты приходить комендант? — спросил Генрих, надевая фуражку.
— Не знаю. Я не знаю, Товарищ.
Скорее всего, Мишка был где-то рядом — дверь в комендантскую только прикрыта. Но все равно, Генрих сейчас сам поговорит с этим Хопфом. Он у него все выведает…
— Слушаюсь! — отрапортовал управляющий, следуя за мальчиком.
Генрих уселся на стул Николая — рядом телефон. Управляющий стоял по другую сторону большого стола.
Нет, не знает он, зачем ему приказали явиться, повторил управляющий. Глаза у него были большие и водянистые. На ногах — кожаные краги.
— Зачем ты одеяло?
Управляющий приветливо ухмыльнулся, и мальчик заметил, что улыбка эта вымученная.
— Ты думаешь, бункер?
— Позвольте мне сесть, Товарищ?
Генриху очень хотелось спросить, умеет ли Хопф действительно играть на большой скрипке, но он сказал:
— Ну, Хопф, мне все известно, ду ферштеэн?
Управляющий опустил голову. Но, внезапно вскочив, он закричал, что никогда не был фашистом.
Генрих ужасно возмутился:
— Зачем ты врешь, Хопф? Зачем врешь? — Он хлопнул ладонью по столу, как это порой делал Николай.
Управляющий снова сел.
— Они расстреляют меня? — тихо спросил он, и лицо его стало дергаться. Неожиданно он закрыл его руками — теперь дергалась уже вся голова.
Это тронуло мальчика. Он сказал:
— Я переговорить комендант, Хопф. Если ты сказать правда, я поговорить комендант.
— Они не расстреляют меня?
— Я поговорить комендант.
Управляющий, должно быть, решил, что ему повезло, что он застал здесь этого мальчишку. Он разговорился. Нет, нет, он не убивал никого. Но вот Толека он наказывал.
Поляк Толек был небольшого роста, коренастый. Поляки, угнанные из Польши, жили рядом с конюшней, рассказывал управляющий. Толек взял из кормового ящика овес, ночью отнес его в деревню и выменял на хлеб и кусочек сала.
— Давай дальше, Хопф!
— Мой долг был донести на него, — сказал управляющий. — Но я не донес на него властям.
— Ты как его бил? По лицу бил?
Управляющий промолчал.
— Как ты его бил, кулаком? Чем бил? Говори!
— Кнутом, — нерешительно произнес Хопф и принялся усиленно тереть покрасневшие глаза.
— Продолжай, продолжай, Хопф! Мне все известно!
Предположив, что мальчишка действительно многое разузнал о нем в деревне, Хопф решил выложить все.
— Ты это про морковь?