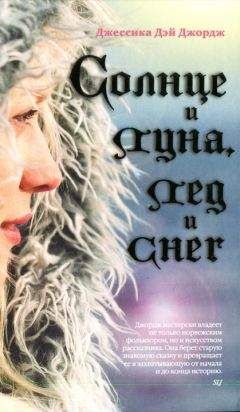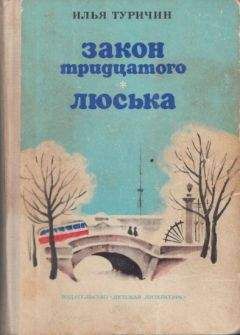Леонид Конторович - Колька и Наташа
Кольку охватили сомнения. Хорошо ли он сделал, что привел сюда старого музыканта? Но теперь уже ничего не поделаешь.
Генкин отец растерянно смотрел на утомленные лица красноармейцев, моряков, рабочих, рыбаков. В глазах у многих он прочел сочувствие, в некоторых — недоумение. Кое-кто смотрел осуждающе.
Низкорослый, плотный молодой матрос с широким грубоватым лицом, которому этот разговор мешал обратиться к Острову, небрежно сказал:
— Не до музыки, сейчас, дядя.
Все повернулись к нему, повернулся и Остров. Сердце у Генкиного отца сжалось…
Вот оно, началось… Никто его не поддержит. Выживший из ума старик послушался какого-то мальчишку, сопляка. Где он? Вон стоит, потупив глаза. Уши бы ему хорошенько надрать…
Колька стоял растерянный. Ему почему-то казалось: все знают, что он привел в ревком музыканта. «И зачем я это сделал?» — думал он.
— Так-то, — авторитетно повторил матрос и повел могучими плечами.
— Почему же так? — спросил Остров. — Не совсем понятно.
Матрос под его спокойным, испытующим взглядом слегка замялся, потом решительно заявил:
— Я не против этих граждан. Чайковского или других, только не до них сейчас. Авральное дело. Беляки под Герасимовкой, захватили Чернышовку, рвутся к Гремячему. — И, оборачиваясь к музыканту, добавил: — Ты не обижайся, дядя, не то сейчас время, чтобы слушать музыку. Революция — это, брат, не фунт изюма.
Ничего не ответив молодому матросу, Остров обратился к окружающим:
— А вы как думаете, товарищи? Может быть, и верно: революция, некогда музыкой заниматься, оставим ее до более спокойных дней. Как, а?
Один из рабочих, с острым взглядом черных глаз, твердо сказал:
— Путает, я думаю, товарищ моряк, в панику ударяется. Зря на музыку ополчился. Без нее никак нельзя. Человек без песни, как птица без крыльев, вроде курицы — только зерно клевать.
Матрос огрызнулся:
— Чего трепать языком, сейчас не гулянки справлять. Беляк, он не даст распеться — шею разом свернет.
— А и верно, — поправляя ушанку, осторожно вмешался один из рыбаков, — не до плясу. Тут каждую минуту страх, что деется, власть качается.
— Что, что, — переспросил Остров.
— Я говорю… — смутился рыбак, — кругом не совсем в общем… Да…
— А — а, — протянул Остров, — понятно. Что еще скажете?
Вперед выступил одетый в черную шинель пожилой матрос с забинтованной правой рукой, подвязанной за шею. Указывая на молодого моряка, он негромко сказал:
— Он не подумав рубанул, Андрей Иванович. Молодо — зелено, торопится. А надо бы и подумать. Отчего же это Ильи, как ни занят, революцию в мировом масштабе решает, а музыку уважает. Очень… Точно говорю.
Он говорил ласково-наставительно, словно прощая заблуждения молодому моряку.
Все насторожились. Кое-кто придвинулся поближе к пожилому матросу. Тот неторопливо продолжал:
— Как-то в Смольном пришлось мне быть, сам видел, как он подтягивал красноармейцам, рабочим с Путиловского, а в другой раз… — Рассказчик улыбнулся своим воспоминаниям и, словно боясь их растерять, умолк…
— Ну, давай, давай, — раздалось вокруг, — чего затих?
— Не выговорить.
— А ты выговори!
Остров также выжидательно смотрел на матроса.
— Дело обстояло так, — продолжал матрос, — выходит это из комнаты Владимир Ильич, а я в карауле был, на часах стоял у его кабинета. Выходит, а сам чего-то себе под нос напевает, этакое сильное и, как бы тебе сказать, уж больно красивое. Я к нему: «Владимир Ильич, уж не обессудьте, интересно узнать, что за песня?» А он на меня эдак посмотрел и спросил:
— Любите песню?
— Люблю, говорю, товарищ Ленин, с ней легче.
— Хорошо, говорит, вы сказали.
Матрос оглянулся, увидел лица, полные ожидания, снял здоровой рукой бескозырку и тихо промолвил:
— Не выговорить, братишки, хоть убей, не выговорит…
— Давай, давай, — теперь уж совсем требовательно загудели все, — ты что, шутки шутить? Давай, говорят.
Лоб у матроса покрылся испариной.
— Погоди, не мешай! — сказал он.
— Тихо! — крикнул молодой матрос, тот, который доказывал, что теперь не до музыки.
Но все и так стихли.
Пожилой матрос напряженно потер лоб, затем энергично отвел руку от лица и громко произнес:
— Ну, наконец-то, вспомнил — «пассаната».
— Соната «Аппассионата» Бетховена, — поправил Остров.
— Она самая, — будь неладно это слово, — радостно вздохнул матрос. — Точно, она!
Вздохнули с облегчением и все присутствующие.
Остров выждал немного и спросил:
— Так как же с музыкой, товарищи? Давайте решать, — в его глазах появились веселые огоньки.
Пожилой моряк ответил:
— Зал тут есть, недалеко, Андрей Иванович. Бывшее здание Дворянского собрания. Там и музыку слушать можно. Там сейчас агитпункт.
— Вот и решили, — с удовольствием сказал Остров.
— Что решили? — все еще не понимая, что произошло, спросил старый музыкант.
— Устроить концерт-митинг при агитпункте с участием оркестра губполитпросветотдела, — ответил Остров.
Музыкант развел руками:
— Но еще нет оркестра и ни в каком просветотделе он не числится!
— Поручаем вам его организовать, а просветотделу подскажем все остальное.
— Правильно! — раздались возгласы.
Музыкант вдруг воодушевился:
— А что? И создадим. И исполним для товарищей «Аппассионату», вальсы Чайковского.
Он огляделся вокруг и, видя доброжелательные, улыбающиеся лица, сказал:
— Я соберу со всего города музыкантов, это будет прекрасный концерт.
— Ну, а шестую симфонию Чайковского можно сыграть? — спросил Остров.
— Шестую? — музыкант метнул на Острова пытливый взгляд. — В офицерском собрании увлекались вальсами. А вы — симфонию! В такое время: голод, война, тиф. Ведь вы знаете, в этой симфонии рок — судьба, то есть — побеждает человека.
Остров, вытирая платком усталые, покрасневшие глаза, пробормотал:
— Инфлуэнца[3] совсем замучила. — Потом уже громко, чтобы все услышали:
— Напрасно вы думаете, что мы откажемся от всего лучшего, что было создано. А насчет рока… Мы с ним научились расправляться… Что же касается оркестра, о нем мы позаботимся. Выступайте в госпиталях, в воинских частях, на заводах. Вы нужны там. Решено?
— Решено, — машинально отозвался музыкант.
Все одобрительно загудели.
…Ушел Остров, разошлись многие другие, а музыкант все еще стоял и растерянно улыбался: «Что за времена наступили! Кажется мир действительно изменился. И — в хорошую сторону».
Глава 23. Отчего подох Пират
Целую ночь мерзли в очереди за керосином Мария Ивановна, Колька и Наташа и только в десятом часу утра получили по три фунта на карточку. Хорошо еще, что ребята временами грелись у костра, разожженного во дворе дома, иначе совсем бы закоченели.
После обеда Колька, по просьбе Дмитрия Федоровича, направился к знакомому бондарю выпросить два обруча.
Бондарь, болезненного вида человек, подбирая обручи, сокрушенно рассказывал зашедшему к нему колеснику об упавших заработках.
— Плохи дела, на хлеб с грехом пополам вытягиваем. Бывало, раньше из липы четыре бочонка сделаешь за день. А нынче где она, липа? Все больше сосна и осина. За день еле два с половиной бочонка сработаешь. Неспористо…
Колька, получив обручи, побежал к Дмитрию Федоровичу.
«Все сейчас живут нелегко, — думал мальчик по дороге, — перетерпеть надо. Вот, например, Остров, до чего большой человек, а досыта не ест».
Дмитрий Федорович поджидал Кольку. Оберегая от собаки, провел к себе. За обручи поблагодарил, усадил за стол — «чайком побаловаться».
Пили вприкуску по третьей чашке, пили и наслаждались, как вдруг Дмитрий Федорович отставил чашку и с огорчением сказал:
— Послушай, голубчик, неважные мы с тобой люди, честное слово, скверные людишки.
Колька вытер капельки пота с верхней губы и тоже перестал пить.
— Пьем мы с тобой чай не как-нибудь, а с сахаром, вприкуску, милый, а на других нам с высокого дерева наплевать. Забыли о других.
Слушая Дмитрия Федоровича, Колька почувствовал себя великим преступником.
— Все мы уважаем Острова. — Дмитрий Федорович поднялся и энергично заходил по комнате. — Да, мы его любим и ценим, а знаем ли, как он живет, в чем нуждается? Скажи, ты вот знаешь?
— Ему Мария Ивановна утром и вечером чай носит, — виновато сказал Колька.
— Чай? — Дмитрий Федорович огорченно покачал головой.
— И, наверное, с одной-единственной ложечкой сахара. Не говори больше об этом, дружок. Я знаю, у тебя доброе сердце, не заставляй о себе плохо думать. Неужели ты не понимаешь: у него умственная работа.
— А как же ему помочь? Все так…