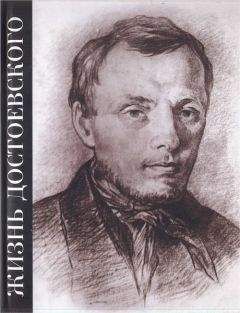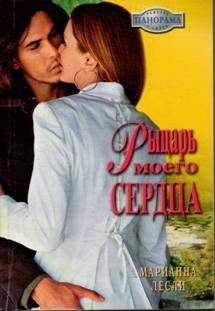Марианна Басина - В садах Лицея. На брегах Невы
Пушкин был уверен, что наконец-то узнает все. Но не тут-то было. Жанно и бровью не повел. Он спокойно ответил, что это действительно общество, только не тайное, а журнальное. Все, кто здесь присутствуют, — сотрудники будущего журнала, который Николай Иванович задумал издавать. Пущин говорил так спокойно, что нельзя было не поверить.
И все же Пушкин знал: тайное общество существует. И Жанно состоит в нем. Но почему он таится? Почему?
А Пущин едва сдерживался, чтобы не взять друга за руку и с открытой душой не рассказать обо всем. Он мучительно думал: «Не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависит, принять или отвергнуть мое предложение. Но почему же, помимо меня, никто из близко знакомых ему старших наших членов не думает об этом?»
Пущин ошибался: старшие члены думали. И в Петербурге, и позднее на юге. Но они опасались, что по пылкости своего нрава и по своей заметности Пушкин может привлечь к их обществу любопытство и внимание нежелательных людей. И еще — это главное — не хотели подвергать его смертельной опасности.
«В чаду большого света»
В предисловии к первой главе «Евгения Онегина» Пушкин писал: «Первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года…».
Пушкин описывал светскую жизнь не понаслышке. Он сам был петербургским молодым человеком, который хорошо узнал свет.
Брат его Лев рассказывал: «По выходе из Лицея Пушкин вполне воспользовался своею молодостью и независимостью. Его по очереди влекли к себе то большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны».
Даже самые близкие друзья, такие, как Пущин, не одобряли Пушкина за его кружение в свете, за то, что не отдавался он в тишине своему поэтическому призванию.
Сомнительные знакомства Пушкина, его приятельские отношения со светскими львами огорчали Пущина. Он говорил: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом: ни в одном из них ты не найдешь сочувствия».
Пушкин терпеливо выслушивал, но поступал по-своему.
Позднее Пущин и сам понял, что ни к чему они были, все эти укоры и выговоры.
К Пушкину нельзя было подходить с заурядной, обычной меркой. И умудренный Пущин писал: «Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе: видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза».
Внешне все выглядело так: не успел восемнадцатилетний лицеист сбросить синий мундирчик, как уже закружился в светском водовороте. Калейдоскоп новых встреч, знакомств, увеселений…
Это было ему нужно. Ему нужна была жизнь во всей ее полноте.
Чаадаев говорил: «Познание человеческого сердца есть одно из первых условий биографа». Пушкину предстояло сделаться биографом целого поколения. Он узнавал его сердце, его внутренний мир.
На первых порах Пушкина приняли в светском обществе с распростертыми объятиями. Юноша из старинного дворянского рода, сын Сергея Львовича и Надежды Осиповны, воспитанник императорского Лицея, причисленный к Иностранной коллегии. Чего еще желать? Он подходил по всем статьям. Его ласкали и привечали в светских салонах и гостиных. Ему даже готовы были простить то, что он поэт. Встречаются же странности.
В аристократической гостиной. Акварель неизвестного художника. 20-е годы XIX века.Странности были в моде. Это шло из Англии. В лондонском высшем свете считалось хорошим тоном иметь причуду, странность. Например: думать вслух; ложась спать, гасить свечку, засовывая ее под подушку; отращивать огромные ногти на руках. Странности допускались. И чопорные законодатели светских зал сначала смотрели сквозь пальцы на то, что «маленький Пушкин» без счету влюбляется, дерется на дуэлях и пишет стихи. Они снисходительно улыбались, когда разнесся слух, что восемнадцатилетний юноша без ума от тридцатисемилетней княгини Голицыной. Что поделаешь: шалун.
С княгиней Евдокией Ивановной Голицыной Пушкин познакомился у Карамзиных и сразу же влюбился. Это все заметили. «Поэт Пушкин, — писал Карамзин Вяземскому, — у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера».
Карамзин не без иронии назвал Голицыну Пифией, то есть прорицательницей, предсказательницей. Светская красавица, княгиня была оригиналкой. Ее занимали предметы, предназначенные, по тогдашним понятиям, отнюдь не для женского ума. Она увлекалась философией и, пуще того, математикой, вела переписку с парижскими академиками по математическим вопросам. Ее красота и оригинальность привлекли внимание Пушкина.
Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенно и пламенно свободной?
Где женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?
Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.
Пушкин восхищался княгиней. Она это ценила. Как-то, будучи в Москве, сказала Василию Львовичу, что его племянник «малый предобрый и преумный». Он «бывает у нее всякий день».
Вернее было сказать — всякий вечер или даже всякую ночь. Оригинальность княгини заключалась и в том, что она превращала ночь в день. Гости являлись к ней в полночь и расходились под утро. За это ее прозвали «княгиня Полночь» или «Голицына-ночная». Кто-то предсказал княгине, что она умрет ночью, и ей не хотелось, чтобы смерть застала ее во сне.
Е. И. Голицына. Портрет работы Д. Грасси. 20-е годы XIX века.Жила Голицына в собственном доме на Большой Миллионной улице, одной из самых аристократических улиц Петербурга, вблизи от Зимнего дворца.
«Дом ее, на Большой Миллионной, был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных художников, — рассказывал Вяземский. — Хозяйка сама хорошо гармонировала с такою обстановкою дома. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей скороизменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне: хотелось бы сказать — в этой храмине, тем более, что и хозяйку можно было признать жрицею какого-то чистого и высокого служения. Вся обстановка ее, вообще туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у нее собиравшемуся, что-то не скажу таинственное, но и не обыденное, не завсегдашнее».
В своем необычайном наряде, с черными кудрями по плечам, Голицына действительно напоминала Пифию — жрицу-прорицательницу из храма Аполлона в Дельфах, а ее ночные гости — посвященных, собравшихся, чтобы совершить какой-то древний обряд.
Одним из этих «посвященных» был юный Пушкин. Ему нравилась таинственная прелесть ночных собраний у Голицыной.
Княгиня Полночь происходила из старинного дворянского рода. А граф Лаваль, в салоне которого Пушкин также нередко бывал, принадлежал к новой знати.
И. С. Лаваль. Портрет работы неизвестного художника. 20-е годы XIX века.Об удивительной истории графа Лаваля немало толковали в гостиных обеих столиц. Пушкин знал ее от родителей.
Сын виноторговца, молодой Лаваль покинул Францию и явился в Петербург, не без основания полагая, что достаточно быть французом, чтобы добиться в России многого. Поначалу определился он учителем в Морской корпус. Вскоре судьба ему улыбнулась. Богатейшая наследница Александра Козицкая согласилась стать его женой. Дело, казалось, сладилось. Но мать Козицкой вдруг воспротивилась. Она не пожелала отдать свою дочь безвестному французу. Лаваль же, как говорится, родился в рубашке. Его возлюбленная решилась на смелый поступок: она подала прошение самому царю — Павлу I.
У Павла был скорый суд. Он велел запросить мать девушки о причине отказа. Та ответила: «Во-первых, Лаваль не нашей веры; во-вторых, никто не знает, откуда он; в-третьих, чин у него больно невелик».
Павлу не понравилась такая амбиция. Ведь сама-то Козицкая происходила из купцов. Он вздернул свой короткий нос и отбарабанил скороговоркой: «Во-первых, он христианин; во-вторых, я его знаю; в-третьих, для Козицкой чин у него достаточен, а потому обвенчать».
Дом № 4 по набережной Красного флота (бывшая Английская), принадлежавший И. С. Лавалю. Фотография. Парадная лестница в доме Лаваля. Фотография.И вот в начале прошлого века известный архитектор Тома де Томон перестроил для Лаваля барский особняк на аристократической Английской набережной, превратив его в чудо архитектуры, роскошный дворец, одно из красивейших зданий Петербурга.