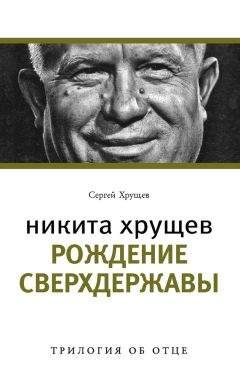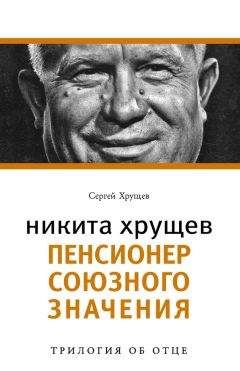Майкл Грубер - Фальшивая Венера
Здесь нужно сделать отступление. Вернуться к Зубкоффу. Он позвонил мне. Сказал, что проводит на медицинском факультете Колумбийского университета одно исследование, щедро профинансированное правительством, Национальным институтом психического здоровья и кем-то еще. Целью этого исследования является изучение воздействия наркотиков на творческий процесс человека. В эксперименте принимают участие студенты — музыканты, художники, и Зубкофф решил привлечь также художников в годах, чтобы проверить, как это связано с возрастом. В общем, он вспомнил обо мне. Одним словом, халявная наркота. А такой товар никогда не залеживается.
Короче говоря, я согласился, и вот что мы имеем. Не сомневаюсь, ты сейчас ломаешь голову, почему после стольких лет старина Уилмот решил вывалить на меня все это. Потому что ты единственный, кто остался, единственный, кто меня знает и кому нет до меня особого дела, поэтому ты без раздумий высмеешь меня, если я спятил. Понимаю, что я говорю слишком резко, однако это так. И раз уж я начал откровенничать, должен сказать, что из всех тех, кого я знал, у тебя самая цепкая хватка за то, что в нашем мире называется действительностью. Ты начисто лишен воображения. И снова извини, что вывалил на тебя все это. Но мне до смерти нужно узнать, что ты думаешь.
Расстановка декораций — это очень интересная фаза, вроде как вся наша жизнь — театр: первое действие, второе действие, третье действие, занавес. Так что давай начнем сначала: мне двадцать один год, я только что окончил колледж. Тебе никогда не приходило в голову, каким образом мне удалось окончить учебу? Как я мог, выбрав специальностью искусство, завалить три профилирующих предмета? Этот самый вопрос мне задал мой куратор. Что ж, от репродукций меня тошнит, я не могу на них смотреть, и я не могу писать о картинах — слова кажутся издевательством. Мне потребовалось три года, чтобы научиться притворяться, и если бы не Слотски, я бы завалил и остальные предметы. А Слотски настоящий гений писать рефераты по искусству: если бы в музеях вместо картин вывешивали рефераты по искусству объемом в тысячу двести слов, Слотски был бы одним из величайших мастеров нашего поколения.
Я вернулся домой в Ойстер-Бей — дом, милый дом, — и стал думать только о том, как выбраться оттуда, прежде чем я покончу с собой или убью его. Своего папашу. Кажется, я никогда тебе об этом не говорил, но у моего отца была одна маленькая проблема.
Он снова приставал к Кенде, нашей служанке, хотя та была самая настоящая уродина. Ну как он только мог? Наверное, отец просто перестал видеть женщин такими, какие они на самом деле. Все было гораздо хуже, пока мама не стала нанимать служанок сама, хотя ей уже было все равно, но служанки менялись у нас одна за другой, а маме, естественно, к этому времени уже нелегко было обходиться без служанки, она с большим трудом обслуживала себя сама.
Я помню, как однажды летом ты пригласил меня погостить у твоей тетки. Наверное, ты никак не мог понять, почему я не ответил тебе тем же. Ну, одна причина — это папашина проблема; быть может, при гостях он бы вел себя пристойно (на людях всегда надо соблюдать внешние приличия), но я не хотел рисковать. Другая причина: на всех до единой стенах нашего долбаного дома висят портреты моей матери в обнаженном виде. Однако наблюдается любопытный переход от прерафаэлитской сильфиды (мой любимый портрет матери, если можно так сказать; ей на нем где-то на пару лет больше, чем мне сейчас: обнаженная, волосы до плеч, стоит, прислонившись к стене, и смотрит на всех нас — ну разве я не красавица?) к классической Венере, далее к версии Тициана и, наконец, к Рубенсу, после чего отец перестал писать ее портреты, а может быть, мать перестала ему позировать. Не знаю, сколько она набрала к тому лету — четыреста или даже пятьсот фунтов. Я больше не мог на нее смотреть, но она поквиталась с отцом в саморазрушительном стиле Дориана Грея.
Так или иначе, можешь представить себе, как я слонялся по этому огромному гулкому дому, жалея о том, что у меня не хватило духа стать последователем какого-нибудь культа, такого, где наносят татуировку на лоб. В конце концов я решил, что никогда не стану играть отцу на руку, я даже не буду губить себя, как это сделала мать. Почему она от него не ушла? Этого я так и не смог понять. По крайней мере, свои деньги у нее были.
Ее отец оставил ей приличную сумму — он сколотил состояние на каких-то железнодорожных переключателях. На всей этой сложной электромеханической технике, которая направляет ток по нужным проводам и выдает в контактную сеть. Была такая штуковина под названием «контакт Петри», которая применялась также и в телефонных станциях. После войны Вестингауз выкупил у старика Петри весь его бизнес где-то миллионов за тридцать, что по тогдашним временам было серьезными деньгами. Дед умер, когда мне было лет семь, но бабушку свою я помню довольно хорошо.
Бабушка Петри была с характером. Красивая, глупая, она вечно беспокоилась по поводу того, какая у нее прическа. После смерти деда она жила с нами двенадцать лет, с каждым годом становясь все тупее, все больше озабоченная церковью и своим местом в грядущем мире. Маленькая драма в духе Диккенса на берегах Гудзона: пропитанное ароматом лаванды дыхание минувшего века. Папаша, естественно, подхалимничал, жутко лицемерил по поводу всего этого религиозного мусора, развлекал направо и налево жирных епископов, заботился о том, чтобы все мы росли с церковью — католические школы и все такое. Шарлотта, естественно, поступила в пансион Сердца Иисусова, а я отправился в Колумбийский университет — только потому, что старик сам там учился, — вместо какого-нибудь приличного художественного училища, куда бы я пошел учиться, если бы у меня был выбор. Бабушка меня недолюбливала. Ее любимицей была Шарлотта. Они часами просиживали, перебирая четки за молитвами или разглядывая ее толстые альбомы с фотографиями в кожаных переплетах. Я не раз спрашивал у Шарлотты, как она все это терпит, а она неизменно отвечала, что это благотворительность, что одинокой старой женщине требуется общество, и в конце концов я прекратил над ней издеваться и стал считать само собой разумеющимся, что моя сестра может быть двумя совершенно различными людьми: маленькой тихой монашкой-послушницей и сорвиголовой в шортах и футболке, которая играла со мной на берегу, вечно вся в песке, который оставляла за собой по всему дому.
Когда бабушка умерла, выяснилось, что все это лицемерие было впустую. Большую часть своего состояния она завещала церкви, выделив какие-то суммы мне (совсем маленькую), Шарлотте (побольше) и матери. Матери также достался дом. В своем завещании бабушка выразила надежду на то, что Шарлотта выполнит призвание свыше и посвятит свою жизнь религии.
Эта сцена отчетливо запечатлелась у меня в памяти: мы сидим за столом и слушаем, как нотариус читает завещание, все в черном, словно на дворе тысяча восемьсот восьмидесятый год. Когда дошел черед до этого пункта, я закатил глаза и толкнул в бок сидящую рядом Шарлотту, ожидая, что она тоже ткнет меня локтем, но она повернулась и посмотрела на меня, и из ее глаз на меня глядел кто-то другой, так что у меня застыла кровь в жилах.
Наверное, вот почему отец так и не бросил мать, вот почему не завел себе настоящую любовницу во французском духе, с квартирой на Манхэттене, как ему наверняка хотелось. Помню, я смотрел на него в тот самый момент, когда до него дошло, что он не получит ни гроша, что он так или иначе навсегда повязан с нами. Отец побледнел, словно получил удар в солнечное сплетение. Странно, потому что в то время он сам зарабатывал довольно неплохо; он был на пике славы как некий второсортный Рокуэлл. Отец мог бы тогда уйти, но не сделал этого, а просто продолжал лапать служанок и местных женщин, официанток и кассирш.
Но когда-то давно он любил мать; нельзя так писать портрет женщины, если ее не любишь, — по крайней мере, я не могу. К тому же есть еще фотографии. Господи, какие же это фотографии! Отец и мать познакомились в последнее лето перед войной в Лиге изящных искусств — отец преподавал, мать училась (ей разрешили отдать последний год богеме, перед тем как стать серьезной и завести семью с добрым католиком), и, полагаю, отец сразил ее наповал своим талантом. Представляю восторг семейства Петри, когда мать притащила его домой — язычника, без денег, без прошлого. Но мама, когда хотела этого, могла быть очень жесткой. К тому же она была дочерью своего отца, единственным ребенком, что, в общем-то, позор для порядочной католической семьи: только один ребенок, в чем дело? Естественно, отец обратился в новую веру и на какое-то время стал более истовым католиком, чем сам Папа; он мог очаровать кого угодно, он очаровал старика Петри, но вот бабушка, как выяснилось, перед его чарами устояла. Готов поспорить, она молила Бога, чтобы японская бомба разрешила все ее проблемы, однако отец вернулся домой живой и невредимый, они с матерью поженились и он стал знаменитым, а потом появилась Шарлотта, затем последовало несколько выкидышей и девочка, которая умерла от полиомиелита в возрасте двух лет, затем я, и на этом все кончилось.