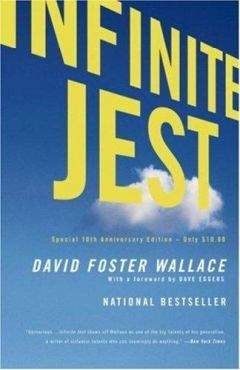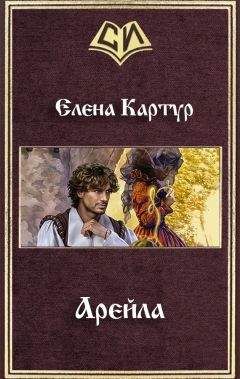Николь Нойбауэр - Подвал. В плену
– Мне нужно быть там, если он вернется. У меня ребенок дома.
Ханнес оторвался от дисплея:
– У вас нет дома никакого ребенка.
– Пожалуйста…
– Он не вернется, и вы это знаете. Есть лишь один вопрос. Почему?
Баптист молчал.
– Он вас боится?
Никакой реакции.
– Да что я вообще напрягаюсь? Господин Штаудингер сейчас ведет прием показаний. Я вне игры.
Ханнес откинулся назад, пытаясь себя уговорить: мол, ему становится безразлично, что случится с Баптистом.
Хранитель Молчания весело взглянул на него. Ханнес не понимал, воспринимает ли его коллега хоть что-то серьезно. Возможно, он воспринимал все серьезно, и от этого все сразу становилось неважным. Было приятно сидеть рядом с таким человеком, который собирал вокруг себя тишину, словно планеты на орбите. Сердце Ханнеса чуть замедлило ритм. И тогда, едва они оставили его в покое, Баптист начал говорить:
– Он не должен меня бояться. Он должен быть благодарен. Я сделал все, чтобы обеспечить его будущее. Вы хотя бы можете себе представить, каково это, когда все решения приходится принимать самому?
Он вскочил и снова начал свою пробежку. Его шаги растягивали полминуты в вечность.
– Вы не хотите меня наконец о чем-нибудь спросить?
Молчание.
Баптист остановился посреди комнаты.
– Я – хороший отец. – Слова повисли в воздухе, медленно растворяясь. – Вы знаете, сколько я сидел рядом с ним? Обучение, расспросы, домашние задания, vocabulaire[44]. Часами, до глубокой ночи, если необходимо. Я заботился о нем. Заботился.
Баптист разговаривал со стенами, словно двоих полицейских в комнате не было вовсе.
– А он все это отмел. Этот год ему придется повторить заново, если не случится чуда. Вы понимаете, что это значит? Он больше не сможет ходить в гимназию.
Ханнес тайком взглянул на диктофон. К счастью, тот жужжал. Баптист еще никогда не говорил так много.
– Я сам-то вообще из рабочей семьи. Мои родители обеспечили мне хорошее образование. Дорогой ценой. Сегодня я знаю, что это имело смысл. – Он взглянул Хранителю Молчания прямо в глаза. – Совсем ничего не хотите спросить?
Молчание.
– А что мне еще оставалось делать? Наблюдать, как Оливер выходит из-под контроля? Он просто не слушал меня.
– Он вас боялся? – спросил Ханнес.
Баптист обернулся:
– Вы… Я думаю, вам лучше выйти. – Ему удалось произнести слово «вы» так, что оно звучало как ругательство.
Ханнес посмотрел в окно, за которым становилось все темнее. Что это за ночь! Она проглатывала детей.
Словно обращаясь к самому себе, он произнес:
– Мои коллеги, наверное, уже прекратили поиски. Слишком темно. – Не сводя глаз с окна, он спросил мягким усталым голосом, словно о погоде: – Вы били вашего сына вечером двадцать первого января?
Только теперь он подумал, что Баптист его не слышал, потому что тот тоже смотрел на черный четырехугольник окна. А потом Ханнес заметил, как Баптист кивнул.
– Пожалуйста, «да» или «нет», для диктофона.
– Да.
Баптист взглянул на Хранителя Молчания, в глазах читалась мольба.
– Это было необходимо. Я поступал так же, как мои родители, это было необходимо. Иначе все оказалось бы бессмысленным…
Диктофон жужжал еще несколько минут, записывая монотонное клацанье испорченных неоновых ламп. Ханнес вскочил и выключил их. И Баптист снова произнес ту же фразу, словно вопрос:
– Иначе все оказалось бы бессмысленным?
Свежий снег скрипел под каблуками Вехтера, мороз уже не так щипал за нос, и комиссар мог почувствовать, что при минус пятнадцати теплее, чем при минус девятнадцати. На Файлицштрассе он купил лахмаджун[45] и откусил от него на ходу. Тот был уже холодный, но Вехтер к этому привык. Если холода продержатся еще месяца три, то он превратится в инуита и сможет выходить на улицу в одной футболке. А кроме того, комиссар был хорошо утеплен: он похлопал себя по животу.
Его мучили угрызения совести. Следовало бы остаться в участке. Телефоны раскалились докрасна, коллеги работали ночь напролет, события происходили одно за другим. Но Вехтер не сможет больше нормально мыслить, если не поспит хотя бы часа три. Ни подчиненным, ни Оливеру он не сделает такого одолжения и не будет вести расследование изнуренным и нервным. Проблема состояла в том, что, кроме него, расследование некому было возглавить. Целлер этого наверняка не сделает, начальница заболела, у Ханнеса было все, кроме лидерских качеств. Если Вехтер отсутствовал, его коллеги работали как оркестр, который играет без дирижера, в котором музыкантам приходится слушать друг друга. Он знал, что они на такое способны, но не мог от них требовать, чтобы они работали так слишком долго. Однако он точно не обрадуется сну, который будут прерывать звонки мобильного телефона.
Комиссар бежал по знакомой улице и вдруг остановился на перекрестке. Машин не было слышно, уличные фонари освещали пустые тротуары. Он даже еще не перестал дрожать от холода. Только в Мюнхене можно стоять посреди перекрестка и слушать, как снежинки падают на землю. Пока Вехтер стоит здесь, на перекрестке двух улиц, он не может свернуть не туда. Но где же они свернули не туда в этом деле? Вехтер чувствовал, что нужный перекресток они проехали много километров назад. Могли ли они предотвратить бесследное исчезновение Оливера? Лежала ли на них ответственность за это? Думать об этом сейчас было бессмысленно. Это мальчику никак не поможет. Если он вообще еще жив. Душа Оливера – словно бомба с тикающим часовым механизмом. Чем дольше мальчик не появлялся, тем прочнее становилась уверенность Вехтера в том, что дня через три они выловят его щуплое тело из запруды. Неожиданно взвыл мотор, нарушив тишину. Комиссар освободил дорогу, пора было возвращаться домой.
В парадном его встретил знакомый запах дома – запах половиц и старого коврового покрытия. И еще чего-то. Кто-то курил. Дым давно рассеялся, но перетлевшие горькие нотки еще висели в воздухе. Вехтер захлопнул за собой дверь, но она не хотела закрываться на замок. От холода замок подъездной двери снова показывал свой норов. Комиссар, выругавшись, попытался еще раз, а потом просто прикрыл дверь. Его глаза привыкли к сумеречному свету, тени оживали в полумраке: стопка местных газет под почтовым ящиком, черные очертания детской коляски. В темноте он поднялся по лестнице. Через окна проникало достаточно света от уличных фонарей, даже не нужно было нажимать выключатели, красные глазки которых присматривали за лестницей.
Вверху запах стал сильнее – совсем чужой. Добравшись до квартиры, Вехтер вставил ключ и распахнул дверь.
Он занес ногу и споткнулся обо что-то мягкое. На ощупь это напоминало кучу тряпья.
Но эта куча шевелилась.
За долю секунды он направил на нее свой «Хеклер и Кох»[46], а свободной рукой нажал на выключатель лампы. Его сознание сработало рефлекторно. Вехтер понял, кто смотрит на него под дулом пистолета. Комиссар покачал головой, не отводя оружие в сторону ни на миллиметр.
– Ты с ума сошел. Вставай, Оливер.
Снежинки вились перед Ханнесом. Казалось, они летели прямо ему в лицо, притягивались к нему. Он ехал в туннеле из ярких пятнышек. Капот глотал разделительные полосы быстрее, чем Ханнес успевал различить отдельные линии. Насколько далеко он мог видеть вперед – на двадцать, тридцать метров? Ему не следовало вести машину, он был опьянен усталостью. Спать. Поспать бы пару часов и немного поесть. Ханнес не мог вспомнить, когда ел в последний раз, не считая засохших пряников в комиссариате. Наверное, прошло уже много часов. Коллеги с ужасом смотрели на него, когда Ханнес уезжал.
Ему следовало оставаться на рабочем месте, замещать Вехтера, как он обычно делал. Позаботиться о Баптисте. Баптист, Баптист… Мозг Ханнеса бросил владельца на произвол судьбы и выплевывал лишь какие-то обрывки фраз. Спать.
Машина затряслась, лед проскрежетал по пассажирской двери. Черт. Он уже не в состоянии ехать по прямой, дверь со стороны пассажира задела снежную стену на обочине дороги. Ханнес вывернул руль влево, слишком сильно, слишком резко. «Лендровер» бросило из стороны в сторону. Он снова рванул руль – самое неудачное решение из всех, какие он мог сейчас принять. Шины взвизгнули, когда машина завиляла по обеим полосам дороги. Если бы сейчас навстречу двигался автомобиль, Ханнес уже был бы покойником. Он и был покойником. Именно так.
Все завертелось вокруг него, нет, это машина вертелась. Ханнеса швыряло, словно куклу. Снова лед заскрежетал по дверце, потом по заднему бамперу, и в его тело врезался ремень безопасности. Мотор заглох.
Наступила тишина.
И вдруг появился грохот, который становился все громче. Но причина была не в его болезни уха. Приближалось что-то реальное. На секунду стало светло как днем. Четыре фары залили его машину светом. От сигнала задрожало заднее стекло. Седельный тягач прогрохотал в нескольких сантиметрах от водительской двери.