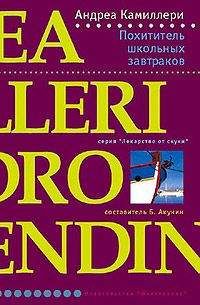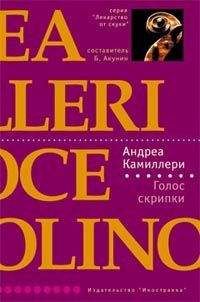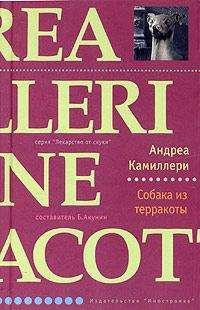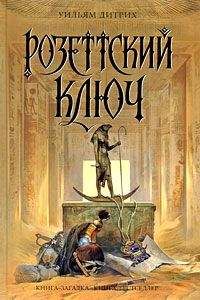Уильям Монтальбано - Базилика
С огромной силой он набросился на меня из-за спины и нанес удары ниже талии и выше колен. В футболе это означает «подрезать», но на верху каменной лестницы это был удар убийцы, после которого я полетел вниз.
Может, мне удалось бы удержать равновесие, но я качнулся вперед, споткнулся о невидимую преграду, опрокинулся и, словно тряпичная кукла, полетел в темноту. На следующий день Лютер обнаружил остатки прочной рыболовной лески из моноволокна, привязанной к одной из каменных балюстрад.
ГЛАВА 12
Вот уж действительно встречают по одежке. Слоняясь вокруг папских апартаментов в потрепанных, обрезанных до колен джинсах и футболке, Треди мог сойти за пригородного жителя средних лет на уик-энде. В белой мантии солнечным воскресным утром он соответствовал всеми узнаваемому образу папы римского. Еще папа походил на футбольного полузащитника, так как был высоким, поджарым мужчиной, державшимся с телегеничным изяществом и уверенностью. Приветствуя людей на площади, похожей на съемочную площадку в Трастевере, округе Рима, Треди возвышался над своей свитой и верующими, которые пришли его поприветствовать.
— Viva il papa![69] — пронзительно кричала женщина, когда он двигался в ее сторону вдоль металлического ограждения, пожимая руки, целуя детишек, обмениваясь улыбками и шутками. Папа в образе политика на мощенной камнем площади, а в качестве декораций — желто-коричневые палацци, как итальянцы называют не только настоящие дворцы, но также и дома, где проживают. Идеальная картинка. Телевизионщики, несмотря на ранний час и воскресенье, тоже прибыли на шоу.
Один из самых важных и почтительных титулов папы — епископ Рима. Умные папы всегда об этом помнят. Конечно, на то есть и священная причина, но помнят еще и потому, что римляне, кем папы с гордостью себя считают, — самый сильный и народный союзник, который только может быть у понтифика. Святой Поляк, актер в начале жизни и превосходно державшийся на публике папа, все свое неординарное правление тщательно полировал полученные им римские верительные грамоты. Большинство воскресений, в ленивые сонные часы завтрака, по утрам между восемью и полуднем он посещал свою римскую паству. Это была всегда пышная церемония: колокольный звон, дым фимиама — но послание Io sono romano не могло быть менее торжественным. И это работало.
Треди соблюдал эту традицию. В то утро на Трастевере он отслужил мессу для толпы, слушавшей стоя в барочной приходской церкви, которая, похоже, редко когда по выходным собирала и сотню прихожан. Треди пришел в униформе класса «А»: ангельски-белой, от круглой zucchetto,[70] прикрепленной шпильками-невидимками к его шевелюре с проседью, до тонких шелковых носков. На ногах у него были блестящие черные мокасины, по поводу которых ходила масса пересудов в итальянской прессе. Поляк носил грубые коричневые башмаки, у которых наверняка были польские предки. Туфли Треди кричали: Italiane!
Папа легко двигался вдоль металлического ограждения, останавливаясь через каждые несколько метров, чтобы поговорить с людьми, ответить на вопросы и задать их. Люди выстроились в три-четыре ряда, поэтому у каждого был шанс как минимум пожать папе палец. Одна молодая женщина протянула маленького ребенка; пожилая дама вслед за ней поспешила пролезть вперед с отвратительной декоративной собачонкой. Треди благословил обеих. Пройдя немного дальше, он уговорил маленького мальчика бросить ему футбольный мяч и ловко отбил его обратно головой. Вы словно присутствовали на фестивале под названием «Мне нравится реклама папы».
Брата Пола это полностью устраивало, ибо я был счастлив просто находиться там. И к счастью, Треди не успел развенчать всех святых, потому что не представляю, что еще могло меня спасти там, на лестнице. Я катился вниз по длинному каменному лестничному пролету словно шар в боулинге, ступенька за ступенькой, одна жестче другой.
Чернота.
Полицейские обнаружили меня без сознания на третьей четверти пути вниз. Наверное, они отвели бы меня в участок, приняв за пьяного, но в бумажнике у меня лежало ватиканское охранное свидетельство, и они поступили иначе: вызвали «скорую помощь». Удивительно, но я ничего себе не сломал, однако мне пришлось несколько дней пролежать в черно-синем коконе боли. Пока Лютер суетился, а доктора проверяли, нет ли у меня сотрясения и внутренних повреждений — тихо, больной, лежите спокойно! — я то забывался в тревожном сне, то погружался в нелегкие размышления.
Физическое повреждение. Психический ущерб. Один. Два. Мое прошлое — этот тонкий шрам мучительной ярости, безумия и смерти, который я получил в Майами, — настигло меня в Ватикане.
Тело было разбито, но разум ясен, как никогда. Этот подонок убил Джимми Кернза, так все и было. Теперь моя очередь. Я испугался. За себя и потому, что Треди тоже мог оказаться на линии огня. Разве американцы не предупреждали его? Может ли эта угроза исходить от тех самых наркобаронов? Им было за что ненавидеть его — не меньше, чем меня. Неужели мы столкнулись с двумя половинками одной опасности? Треди был призовой мишенью для любого, жаждущего отомстить или попасть в заголовки газет, но он жил в сердце тщательно разработанной системы, обеспечивавшей его безопасность. Сначала они поохотятся за мелкой рыбешкой, а не за китом.
Я жил один. Легкая добыча. Вот почему я испугался. Когда-то я был быстр и молод. Теперь я псих, слепленный на скорую руку и облаченный в новую одежду. Неудачник, променявший драку на церковь, свой значок полицейского — на воротничок служителя церкви, насилие — на слабо помогающую молитву. Человек, что охотится за мной, будет жесток, быстр и решителен — мачо, подогреваемый местью, сжигаемый гневом.
Мы будем играть на моей территории, но перевес всегда останется на его стороне. Может, ему удастся расправиться со мной. Пусть так. Но если он совершит малейшую ошибку, я убью этого ублюдка.
В то воскресное утро на Трастевере я еще ощущал приступы резкой боли, но все части тела двигались более или менее в одном ритме. Чтобы убедиться в этом, накануне я даже дважды обежал трусцой Ватикан. Я стоял на не занятой толпой большой площадке, зарезервированной для прессы; в основном для ватиканских фотографов вперемешку с предупредительными штатными корреспондентами. Пришли Тилли и Мария, а также два репортера из Европы, с которыми я имел шапочное знакомство.
Я перебросился несколькими словами с дамами, но профессиональная часть моего естества оценивала степень безопасности Треди. Впереди папы шли двое ватиканских полицейских в штатском из службы безопасности, за ними и немного впереди папы — Диего Альтамирано. Он улыбался, но его глаза терпеливо и внимательно вглядывались в толпу. Треди говорил, что его новый молодой помощник — специалист по бою без оружия, и я мог этому верить. Но мне было интересно, не прячет ли он пистолет под курткой своего черного костюма. Еще двое переодетых ватиканских полицейских довершали зону безопасности вокруг Треди. Я знал также, что несколько молодых полицейских, переодетых в джинсы, рассредоточены по площади. В глубине толпы вышагивал высокий чернокожий человек в сером монашеском одеянии. Лютер нашел себе воскресную работу, которая, похоже, нравилась ему не меньше чтения проповедей.
— Каждый раз, когда я вижу Его святейшество, он кажется еще более красивым. Но он ли — тот самый человек, который спасет нашу церковь? — спросила Мария, затаив дыхание.
— Не обращай на нее внимания. Пол. Это ее первый папа; Мария влюблена, — поддразнила Тилли.
Мария залилась очаровательным румянцем.
Я сказал:
— Наверное, непросто быть старым седым ветераном, Тилли.
Она улыбнулась.
— Ладно, признаюсь, когда я его вижу, то ощущаю себя несколько… ну, ты понимаешь. Даже если я и разочарована отсутствием у него новой политики. Он производит впечатление, но придется потерпеть и дождаться чего-то существенного, прежде чем я откажусь от своей девичьей добродетели и изменю о нем мнение.
Пустые слова, ибо «зануда» он или нет, но радикальная Тилли точно так же попалась на удочку папы, как и консервативная Мария. Ее лицо горело, она не сводила глаз с Треди с того момента, как он появился на площади.
Пока Треди распивал кофе с местной аристократией, Мария и Тилли безжалостно подтрунивали над моим белым воротничком, черным нагрудником, черными брюками и над всем, чем только можно. Большую часть времени это одеяние пылится у меня в шкафу, пока не подоспеет церковное событие, где я могу нанести оскорбление кому-нибудь более религиозному, чем я, придя в джинсах. Вообще-то я полагал, что выгляжу внушительно. Тем не менее женщины бросили меня словно тухлую рыбу, стоило только появиться Треди.