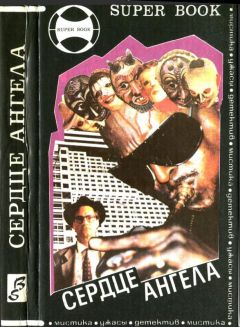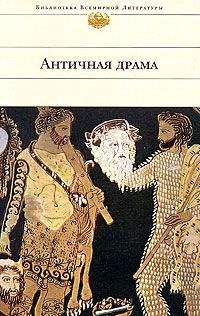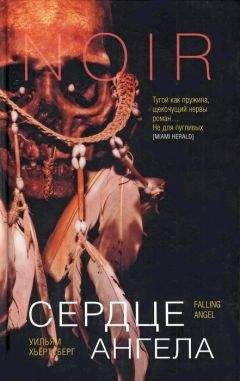Уильям Хортсберг - Сердце ангела. Рассказы
— Я не собираюсь бить тебя, старина.
Он пробормотал что-то невнятное и неуклюже бросился вперед, размахивая бритвой. Поймав его руку своей левой, я шагнул к нему вплотную и резко ударил коленом в самое, уязвимое место. Туте с тихим стоном осел на землю. Я слегка крутанул ему кисть, и он уронил бритву на коврик. Ногой я отбросил ее к стене.
— Глупо, Туте. — Я поднял бритву, сложил ее и спрятал в карман.
Туте сел, держась за живот обеими руками, словно боясь, как бы что-нибудь из него не вывалилось.
— Что тебе от меня нужно? — простонал он. — Ты не писатель.
— Попал в точку. Так что не трать время на брехню и расскажи все, что знаешь о Джонни Фейворите.
— Мне больно. Кажется, у меня внутри все отбито.
— Поправишься. Хочешь присесть?
Он кивнул. Я подтащил к нему красно-черную сафьяновую оттоманку и помог ему поднять с пола свою тушу. Туте мычал, держась за живот.
— Послушай, Туте. Я наблюдал вашу маленькую вечеринку в парке. Номер Эпифани с петухом. Что это было?
— Обеа, — простонал он. — Ву-ду. Не каждый чернокожий — баптист.
— А при чем тут эта девушка, Праудфут?
— Она «мамбо», как и ее мать. Духи вещают через это дитя. Она приходит на собрания «хумфо» с десяти лет. Заняла место жрицы в тринадцать.
— После того, как заболела Эванджелина Праудфут?
— Ага. Кажется, так.
Я предложил Тутсу сигарету, но он покачал головой. Закурив, я спросил:
— Джонни Фейворит увлекался ву-ду?
— Он путался с «мамбо», понимаешь?
— Джонни посещал собрания?
— Само собой. Почти всегда. Он был «гунси-босал».
— Как?
— Он был посвящен, но не крещен.
— А как называют того, кто крещен?
— Гунси-канзо.
— Ты тоже «гунси-канзо»?
— Я был крещен давно, — кивнул Туте.
— Когда ты видел Джонни Фейворита в последний раз на вашем курином празднике?
— Я уже говорил, что не встречал его с начала войны.
— А что означала куриная лапа? Та, что лежала на рояле, перевязанная лентой?
— Означала, что я слишком много болтаю.
— Насчет Джонни Фейворита?
— Вообще о том, о сем.
— Не слишком убедительно, Туте. — Я выпустил ему в лицо облачко дыма. — Ты не пробовал играть на рояле с рукой в гипсе?
Туте попытался было подняться, но с гримасой плюхнулся на оттоманку.
— Ты не сделаешь этого.
— Сделаю все, что нужно, Туте. Могу запросто сломать тебе палец.
В глазах старого пианиста появился неподдельный страх. Для пущей убедительности, я пощелкал костяшками правой руки.
— Спрашивай, все, что хочешь, — выдавил он. — Я и так сказал тебе слишком много.
— Ты не встречал Джонни Фейворита последние пятнадцать лет?
— Нет.
— А Эванджелина Праудфут? Она не говорила, что видела Джонни?
— Я об этом не слышал. Последний раз она упоминала его лет восемь или десять назад. Я помню это, потому что тогда здесь появился какой-то профессор из колледжа; он хотел написать книгу о ритуале Обеа. Эванджелина сказала ему, что белым людям нельзя бывать на «хум-фо». А я тогда пошутил, что дескать, другое дело, если они умеют петь.
— И что она?
— Сейчас скажу. Так вот, она не рассмеялась, но и не рассердилась. Просто сказала: «Туте, будь Джонни жив, он был бы могущественным хунганом, но это не значит, что я должна открывать дверь каждому белому, умеющему шевелить розовым язычком и желающему нанести нам визит». Видимо, она все же думала, что Джонни мертв.
— Туте, я рискну поверить тебе. А к чему эта звезда на твоем зубе?
Туте скривился. Резная звезда блеснула в свете электрической лампы над головой.
— Это чтобы люди знали, что я ниггер. Не хочу, чтобы они когда-нибудь ошиблись.
— А почему она перевернута?
— Так покрасивее.
Я положил одну из своих визиток на телевизор.
— Оставляю тебе карточку со своим телефоном. Услышишь что-нибудь — позвони.
— Ага. Будто у меня и без этих звонков мало неприятностей.
— Трудно сказать, может тебе и понадобится помощь, когда снова получишь заказной почтой куриную лапу…
Заря уже окрасила ночное небо румянцем на щеке девушки из церковного хора. По пути к машине я выбросил бритву с жемчужной рукояткой в мусорный бачок.
Глава восемнадцатая
Когда я, наконец, завалился в койку, солнце уже сияло вовсю, но я ухитрился проспать почти до полудня, несмотря на дурные сны. Меня преследовали кошмары более яркие, чем фильмы ужасов из «Вечернего шоу». Эпифани Праудфут резала горло петуху под рокот барабанов «ву-ду». Танцоры покачивались и стонали, но на этот раз кровь не иссякала, и алый фонтан бил из бьющейся птицы, поливая все кругом словно тропическим ливнем, пока танцоры не начали тонуть в кровавом озере. Я увидел, как тонет Эпифания и, покинув свое укрытие, бросился бежать, меся каблуками кровавую жижу.
Ослепленный паникой, я несся по пустынным ночным улицам мимо пирамид из мусорных бачков. Из канав на обочинах за мной следили крысы величиной с бульдога. Воздух источал гнилое зловоние. Я бежал, почему-то превращаясь из добычи в преследователя, и пытался догнать далекую фигуру на бесконечных, незнакомых авеню.
Как быстро я не бежал, догнать ее не удавалось. Беглец ускользал от меня. Когда тротуар кончился, погоня продолжалась по усеянному мусором и мертвой рыбой песчаному пляжу. Впереди замаячила огромная как небоскреб морская раковина. Человек вбежал внутрь. Я последовал за ним.
Изнутри раковина напоминала радужно-светящийся кафедральный собор с высоким сводчатым потолком. Наши шаги отдавались эхом в закручивающемся спиралью проходе. Вот он сузился, и я свернул в последний раз, чтобы увидеть противника, путь которому преградила огромная, подрагивающая стена из мясистой плоти самого моллюска. Выхода отсюда не было.
Я схватил человека за воротник пальто и развернул к себе, одновременно толкая назад, в слизь. Это был мой близнец. Он заключил меня в объятия и поцеловал в щеку. Губы, глаза, подбородок, каждая черточка была моей. Я обмяк, сраженный жаром его любви. Затем ощутил его зубы. Братский поцелуй становился свирепым, руки двойника добрались до моего горла.
Я начал сопротивляться, мы оба упали, и я попытался нащупать его глаза. Мы боролись на жестком перламутровом полу. Вдруг его хватка ослабла, и я всадил ему в глазницы большие пальцы. Он не издал ни звука. Мои ладони глубоко погрузились в его плоть, и знакомые черты просочились между пальцев наподобие влажного теста. Лицо его стало бесформенной массой, лишенной костей и хряща, и когда я попытался убрать руки, они увязли в ней, как крючок в застывшем жире. С воплем я проснулся.
Горячий душ успокоил мои нервы. Через двадцать минут, выбритый и одетый, я ехал к своему гаражу. Оставив в нем «шеви», я подошел к киоску с провинциальными газетами рядом с Таймс-Тауэр. На первой странице «Пафкипси Нью-Йоркер» была напечатана фотография доктора Фаулера. Заголовок гласил: «ИЗВЕСТНЫЙ ДОКТОР НАЙДЕН МЕРТВЫМ». Я прочел всю заметку за завтраком в аптеке Уэлана на углу Парамаунт-билдинг. Причиной смерти называлось самоубийств во, несмотря на то, что предсмертной записки найдено не было. Тело нашли в понедельник утром коллеги Фаулера, обеспокоенные тем, что он не явился на работу и не отвечал на звонки. Женщина на фотографии, которую покойный прижимал к груди, оказалась его женой. О морфине и пропавшем перстне не упоминалось.
Я выпил вторую чашку кофе и направился в контору, чтобы просмотреть почту. Среди обычного заурядного хлама на столе лежало письмо от одного человека из Пенсильвании, предлагавшего выслать почтой за десять долларов курс лекций по анализу сигаретного пепла. Я смахнул его в корзинку для мусора и прикинул, чем мне сейчас заняться. Можно было съездить на Кони-Айленд и попытаться отыскать мадам Зору, цыганку-предсказательницу Джонни Фейворита, но я решил, на всякий случай, вернуться в Гарлем. Эпифани Праудфут многое утаила от меня прошлым вечером.
Вынув из конторского сейфа свой «дипломат», я начал было застегивать пальто, но тут зазвонил телефон. Это был междугородный заказной вызов от Корнелиуса Симпсона. Я сказал телефонистке, что беру оплату на свой счет.
— Горничная передала ваше послание, — произнес мужской голос. — Ей показалось, что у вас было что-то срочное.
— Вы Спайдер Симпсон?
— В последний раз был таковым.
— Мне хотелось бы расспросить вас о Джонни Фейворите.
— А о чем именно?
— Ну скажем, не встречали ли вы его в последние пятнадцать лет?
Симпсон рассмеялся.
— В последний раз я видел Джонни на следующий день после Пирл-Харбора.
— А что здесь смешного?
— Ничего-. Что касается Джонни, то смешного в нем было мало.
— Так почему же вы рассмеялись?