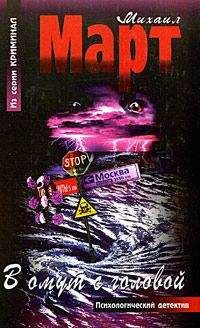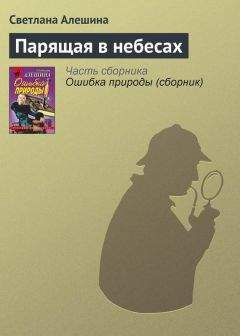Анатолий Арамисов - Французская защита
«Пошла ты… Будь что будет… Развлекаловка закончилась…мать твою!» Француженка словно прочла мысли заключенного.
Тонкие пальцы потянулись к темной кнопке на краю стола.
Дверь приоткрылась, выглянула секретарша.
Женевьева отдала распоряжение, и спустя минуту тот же негр-охранник привел Одинцова к знакомой железной двери холодного карцера.
- *А' gauche! — Налево! (фр.)
- “J’écoute? — Слушаю? (фр.)
* * *Часы ожидания превратились в вечность.
Виктор, сжав руками виски, лежал на деревянной койке карцера. Свежий ветерок с воли задувал через окно камеры запахи весны, где-то недалеко щебетали птицы, а ему было плохо, как никогда.
В обычной жизни мы часто не замечаем страданий наших друзей, а если видим и чувствуем их, то нередко — как-то отстраненно, вскользь, затухающе…
В экстремальных условиях, например, на войне, боевое братство имеет совсем другой смысл, другой вес. В людях просыпаются неведомые ранее черты: мужество, самопожертвование, взаимовыручка; даже раненые не хотят уходить с поля боя, чтобы не подводить своих товарищей. Заключение на чужбине — тоже своего рода экстремальная ситуация. И там слово родного русского языка рядом — словно глоток воды в жаркой пустыне.
Душа Виктора рвалась в тюремный госпиталь.
«Что там с Лёхой? Жив ли вообще? Он так неподвижно лежал на своей койке. Будто бы не дышал. Сволочи…»
И кисти рук Одинцова непроизвольно сжимались в кулаки.
В середине дня звякнул замок, открылась тяжелая дверь, негр поставил на пол камеры пластмассовую тарелку с крышкой и закрытый стаканчик с жидкостью.
Виктор приподнял голову и тут же снова опустил ее.
Есть почему-то не хотелось.
«Что же придумать? Что?? Как мне узнать о Лёхе? Знать бы, как дело повернется…эх!»
Рядом зазвучал визгливый голос Темплера. Француз был недоволен качеством принесенной еды.
«Скотина… была б моя воля — засунул бы тебе в пасть ту крысу… и заставил сожрать… Баран фиолетовый, родит же Земля уродов, ходят такие по ней, воруют, насилуют, убивают, и — хоть бы что…
Вот сидит рядом со мною, вроде как мы с ним одинаковые. Карцер у обоих. Надолго ли, вот вопрос? Начальница что-то смолчала, какой срок мне здесь тянуть».
Голос Темплера смолк.
Виктор прислушался. Сосед орудовал ложкой, шумно втягивая ртом вермишель из пластмассовой тарелки.
Одинцов покосился вниз.
Из-под крышки стоящей на полу тарелки доносился аромат супа быстрого приготовления.
«А не объявить ли мне голодовку? — пришла в голову неожиданная мысль.
— Точно! Потребую свидания с Лёхой, иначе отказываюсь принимать пищу!»
И Виктор, вскочив с койки, нервно заходил по камере.
Спустя полчаса в коридоре снова послышались голоса. Высокий негр, открыв дверь, посмотрел на русского, потом вниз на нетронутую тарелку, хмыкнул.
На следующий день в камеру Одинцова никто не заглядывал. Виктор слышал, как Темплер получил свою порцию, потом громко чавкал, поглощая пищу.
— Дайте воды, сволочи! — Одинцов забарабанил кулаками в дверь камеры.
Тишина.
Ночью пошел дождь.
Виктор, словно акробат, опираясь ногами на стенки камеры, с трудом долез до тюремного окна, подтянулся на руках, потом снял с ноги тапок, и просунул его между решеток.
Капли влаги падали в стоптанную обувь.
Спустя полчаса тапок лишь промок под каплями, внутри воды почти не было.
Страшно затекли руки и ноги, но жажда была сильнее любой боли. Одинцов уже почти отчаялся и хотел спрыгнуть вниз, как внезапно за окном начался такой ливень, что тапок наполнился за три минуты.
Виктор дрожащей рукой подтянул его к себе и жадно выпил содержимое. Потом снова просунул руку между решеткой, но в этот миг ливень прекратился.
«Все! Хорошего понемножку. Как бы не брякнуться здесь…» — Виктор начал осторожно спускаться вниз, но через мгновение его босая нога все же соскользнула с влажной стены, и он, падая в темноту, не успел сгруппироваться и прижать голову подбородком к груди…
…Яркая вспышка в сознании от удара о бетонный пол.
И — опять мрак, ночной мрак тюремной камеры.
Тишина ее нарушалась лишь шуршанием еще одной четвероногой твари, подобравшейся к лежащему без сознания Одинцову.
Крыса с наслаждением слизывала ручеек крови, извивавшейся по тюремному полу из головы Виктора…
Белый потолок вонзил свой немыслимый свет через тяжело приоткрывшиеся веки.
«Где я?» — первая мысль скользнула в сознании Виктора и передалась по физиологическим механизмам организма к запекшимся губам.
Над ним склонилось лицо женщины.
Оно немного заслонило пронзительный свет и резануло второй, облегчающей МЫСЛЬЮ:
«На этом свете, похоже…»
Женщина внимательно посмотрела на русского, который сутки пролежал без сознания в холодном карцере, и быстро вышла из тюремной медицинской палаты.
Боль медленно покидала организм Одинцова. Три дня он не мог пошевелить головой, врачи прикрепили сзади на затылок специальный корсет, и сиделка-сестра осторожно, с большим трудом, время от времени переворачивала русского заключенного со спины на бок и обратно.
— Где Лёха? Лёха где? — еле слышно шептал Виктор сиделке, молодой француженке с неказистым личиком, в веснушках, со смешно вздернутым вверх маленьким носиком.
— Je ne pari pas russe! — немного испуганно отвечала та, когда кисть Одинцова сжимала её руку, ставящую капельницу, словно требуя немедленно доставить сюда соседа по камере.
Спустя еще два дня, когда боль в голове Виктора отступила окончательно, и он стал приподниматься на постели, в палату, шурша накрахмаленным белым халатом, вошла Женевьева.
— Оставьте нас! — приказала она санитарке.
Та поспешно вышла за дверь.
— Как самочувствие, мэтр? — холодным тоном произнесла начальник тюрьмы.
— Мерси за заботу, в порядке, — взгляд Виктора безучастно скользил по потолку.
— Смотри мне в глаза! — медленно проговорила француженка.
Одинцов приподнялся на постели, подложил под спину широкую подушку и встретился взглядом с тюремщицей.
— Я слушаю Вас…
— Почему ты отказался покинуть карцер? Упрямство? Гордыня? Какое тебе дело до твоего соседа-уголовника? Он просто вор, а ты попал сюда из-за своей горячности. Не понимаю я вас, русских.
— Женевьева… — Виктор впервые назвал начальницу по имени. Та быстро поставила стул рядом с кроватью и села.
— Да?
— Что с моим соседом? Где он? Скажи, я прошу.
Француженка отвела глаза.
У Одинцова задрожали губы.
«Так я и знал!»
Он с трудом справился с собой, стиснул зубы, чтобы не закричать от боли, ненависти, лишь глаза его повлажнели…
— А я сегодня видел странный сон, — внезапно проговорил Виктор, выпрямляясь на постели.
— Что? — недоуменно вскинула брови Женевьева.
— Да. Сон. Будто бы я ухожу на свободу из тюрьмы, зову с собой Лёху, а он не может встать с койки — лежит, покрытый льдом вместо одеяла…
Он помолчал, и, сглотнув слюну, продолжил:
— Я пытаюсь сбить с него лед и ломаю в кровь все ногти… Потом почему-то кладу на эту ледяную глыбу компьютер, да… именно компьютер… ноутбук. И лед начинает таять…
Женевьева с тревогой заглянула в глаза Одинцову.
— Не волнуйтесь, я не сошел с ума. Всего лишь рассказываю сон.
— Странный сон, — тихо проговорила француженка.
— Так что? Кто его? Темплер?
Женевьева кивнула.
Она сама не ожидала от себя такого поступка. Прийти в тюремную палату к русскому заключенному — это было грубое нарушение этикета, негласных правил, царящих в системе наказаний Франции.
Но её, так много времени посвятившей в юности изучению тайн чуда-игры под названием шахматы, привлекал этот русский мастер, она чувствовала в нем родственную душу.
К тому же он был внешне симпатичен, высок, строен, по-детски открытый взгляд его серо-голубых глаз резко контрастировал с теми частыми темно-маслянистыми, похотливо-хитрыми взорами ее соотечественников, с которыми она ежедневно сталкивалась на улицах Парижа.
Виктор издал короткий стон и откинулся на подушку.
— Он его ножом? Или чушкой, как ты сказала в кабинете?
— Мне сначала доложили так. Потом выяснилось, что кроме синяка на голове у него была перерезана артерия…
Одинцов вытер ладонью вспотевший лоб.
— И что будет Темплеру за это?
— Ничего. У него и так пожизненное.
Виктор помолчал и глухо произнес:
— Но почему… почему же, когда лед растаял…. от ноутбука…, я взял его за руку и мы вышли из тюрьмы. Вместе. И он сказал мне: «Смотри, Витек! Наша Москва!»