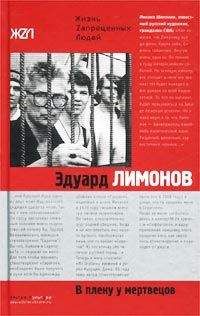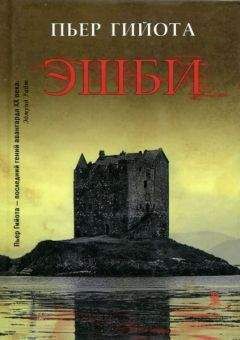Тарас Покровский - Наказание и преступление. Люстрация судей по-Харьковски
С перспективой платить за свободу Куля уже смирился, но проблема была в том, что 10–20 тысяч долларов для этого было очень мало, а сумма в 100 тысяч, которую заявлял для решения вопроса адвокат, была заоблачной. Все его активы арестовали, поэтому продать он ничего не мог. Люди, которые пытались помочь ранее, разуверились в реальности помощи, и наверное в невиновности Кули тоже. Во всем его знакомом окружении на него смотрели с сожалением и махнув рукой, мол жаль Пашку, попался, а теперь уж ничего не поделаешь… С таким убеждением окружающих одолжить у них большую сумму было не реально, даже с пониманием их того, что Куле было с чего отдавать. Оставался только сомнительный вариант со снятием какой-то единицы его недвижимости с ментовского ареста для дальнейшей ее продажи, но для этого тоже нужны были какие-то деньги, а самое главное то, что нужен был покупатель, который в период кризиса был сам по себе большой редкостью. В итоге оставалось только ждать чуда…
В таком режиме прошло еще шесть месяцев пока обвиняемые ознакамливались с материалами дела превращаясь постепенно в подсудимых. Возможно они ознакамливались бы и далее, так как объем материалов был очень велик, но подошел предел возможности держать арестованных под стражей и под следствием одновременно, которая максимально по тому УПК могла длиться только восемнадцать месяцев. Поэтому, грубо нарушая Кулины права на полное ознакомление с делом, следователь без подписания им протокола об ознакомлении передала его в суд, а суд естественно принял дело без комментариев такого грубого нарушения прав подсудимого. В УПК редакции 1960 г. есть отдельная статья, которая звучит так: "Существенные нарушения требований УПК". По ее велению следует, что судебное решение в любом случае подлежит отмене, если: п.11"…нарушены требования об обязательном предъявлении материалов расследования для ознакомления в полном объеме". Но ни прокуратура, поставленная следить за соблюдением законности, и тут же передающая дело с такими грубейшими нарушениями в суд, ни суд, принимающий дело к рассмотрению и отвечающий за справедливость по отношению к правам обвиняемого, на такие факты обращать внимание не привыкли. Это была очередная статья, которая по их прихоти выборочного правосудия находилась вне их личного регламента, и не подлежала к соблюдению ими.
Так начался процесс суда, который шел вяло с большими перерывами и переносами. Далеко не старый, бодрый и хорошо выглядевший судья не торопился делать свою работу. Куля подсчитал, что за тот календарный год, в который расследовалось их дело с января по июль он проработал в совокупности только один месяц, а остальное время или болел, или находился в отпуске.
Но этот период имел и свою прелесть, которая состояла в том, что у Кули появилась возможность видится с родными, которые наконец получив статус общественного защитника, могли посещать его в расположении следственных кабинетов СИЗО. Встречи с родителями, особенно первое время вызывали очень сильные, но двойственные чувства. За долгое время, более полутора года разлуки, очень соскучившись друг за другом, у всех встречающихся на глазах выступали слезы. И было не совсем понятно — это слезы счастья от долгожданной встречи, или слезы горя от лицезрения места встречи, которое своей тяжестью стен и металлом многочисленных решеток, неустанно давили на психику непривыкшего к таким пейзажам человека. Куля изо всех сил старался содержать свои глаза сухими, настроение бодрым, а состояние духа стойким, но это было очень сложно.
Людям, которые ни в памяти своих предков, ни в своей личной жизни, ни в жизни своих уже взрослых детей об уголовном мире, о бытии за решеткой не имели ни малейшего правдивого понятия, кроме того, что выносилось наружу реками общей пропаганды было страшно и невыносимо больно видеть своего единственного сына, кровинушку, свою надежду и гордость в таких ужасных местах. Парадоксально, но для этих людей такие обстоятельства были двойным ударом. Они прекрасно знали своего сына, они его растили, воспитывали и чувствовали как никто, и естественно при других обстоятельствах со стопроцентной уверенностью отрицали бы подобное обвинение их чада даже близко. Но когда сейчас, Куля глядя в их глаза наполненные слезами, страхом, недоумением, обидой и разочарованием, и сглатывая свой комок горьких эмоций в горле, пытался пояснить им сложившуюся ситуацию и свою невиновность в ней, они вроде бы верили ему, и ничего не оспаривали, но уже через 20–30 минут Куля опять замечал, как менялось, возвращаясь в исходное положение, их понимание и восприятие реальности, как их глаза опять наполнялись горем от разочарования в своем сыне. Их любовь к нему при этом не становилась меньше, но от этого их сердца, терзаясь одновременно от потери светлых надежд, и от горького созерцания реальности, страдали вдвойне…
Как Куля не старался, но такая закономерность оставалась неизменной в масштабах не только одной или двух встреч. Получалось, что закоренелость родителей, проживших всю свою жизнь в полном доверии к милиции и суду, сегодня не позволяла сдвинуть свои позиции даже собственному сыну. И отец, и мать, слушая Пашу, от душу верили ему, и в какой-то момент в их глазах появлялась искра прежней веры в него, но стоило Куле замолчать и дать этой теме какую-то паузу, как происходил какой-то загадочный регресс в их осознании ситуации, и казалось все, что пояснялось только что, забывалось напрочь. Пожизненное доверие СИСТЕМЕ со времен союза не позволяло им поверить окончательно в то, что к примеру та же милиция сегодня, может так цинично и хладнокровно наговаривать. Их разум отторгал мысль и не мог усвоить, что сегодня СИСТЕМА может позволить себе решать судьбы людей руководствуясь только своими шкурными интересами, исходя не из справедливости и долга, а из того, что им выгоднее сегодня и проще.
Куля ужасался от такой несправедливой, но стойкой закономерности. Кроме того, что было пронзительно больно за то, что о нем совершенно незаслуженно прокатилась дурная слава, что мошенник он и аферист, так еще его буквально разрывало на части от досады за то, что у самых близких и родных ему людей рушилась к закату жизни их единственная опора в ней, ее главная надежда, и ее заветная мечта. И если для мамы спасением в этом случае была ее слепая и святая материнская любовь, которая своим броненосным безразличием ко всем внешним посторонним факторам черного влияния обеспечила ее сердцу, хоть какой-то защитный иммунитет, то для Михаила Палыча, Куля это отчетливо чувствовал своим сердцем, как для мужчины и как для отца, такой итог был, как непредсказуемый и внезапный крах в конце пути, который пережить было для него предельно сложно и нестерпимо больно. Наверное известие о какой-то героической смерти сына воспринялось бы им не так тяжело и болезненно, как известие о сыне-мошеннике, которому предстояло теперь многие годы прожить за решеткой, и выйти оттуда зэком, на которых он за свою жизнь насмотрелся, с поломанной судьбой и по сути в бездну. Более менее очухавшись от инфаркта, который случился с ним еще тогда, когда сын только заехал в СИЗО, сейчас Куля, после долгой разлуки, увидев отца на следственных кабинетах, от одного взгляда на него был готов разрыдаться у него в ногах. Его любимый батя, когда-то здоровенный, широкоплечий мастер спорта по борьбе, еще недавно пропитанный оптимизмом и жизнью, сейчас казалось угасал на глазах. Он никогда не видел его таким растерянным, сдавленным и сломанным. Куле хотелось рыдать от кинжальной боли в груди, но он улыбался, шутил и пытался всеми способами взбодрить его, вселить в его душе надежду и вдохнуть в него с ней силу жизни.
А пока, единственной реальной надеждой и для отца, и для себя самого Куля видел теперь только в предстоящем суде. Он предполагал, что безумное обвинение его в большом количестве деяний по разным статьям УК было специальным ходом следователя для каких-то своих целей пока дело находилось под следствием, а для суда большинство этого маразма значения иметь не будет. В худшем случае думал он скорее всего останется две или три статьи, из которых одна тяжелая, где обвинение состоит в присвоении средств с использованием служебного положения, так как она шла основной во всем обвинительном заключении, и пара легких, где останется подделка протокола Љ1 и служебный подлог. Все остальное, по Кулиному уразумению, должно было почти самопроизвольно развалиться, как во-первых ненужное, ведь одной тяжкой статьи достаточно было, чтобы засадить Кулю до скончания века и отобрать у него все, что только было возможно, и во-вторых, как кричаще абсурдное, чтобы не портить своим маразмом общий вид окончательного судебного решения. Но и это предположение в теории не устраняло практической потребности в деньгах, и что характерно, в том же самом количестве, как и заявлялось ранее.