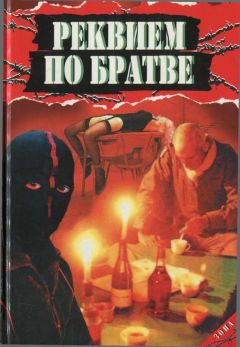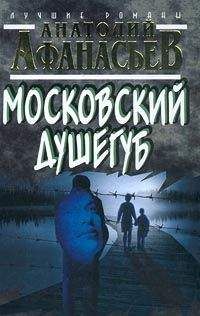Анатолий Афанасьев - Грешная женщина
Через пять минут она ушла, наказав никому не отпирать и не отвечать на телефонные звонки.
В шкафчике над холодильником, откуда она доставала «Распутина», я обнаружил полбутылки армянского коньяка. Этого должно было хватить, чтобы ее дождаться. Есть не хотелось, но на всякий случай я откупорил банку мясных консервов. Потом сходил в комнату. Да, тут все было устроено так, как я и предполагал: салон-спальня парижской куртизанки, по случаю заброшенной в варварскую страну. Огромная белая кровать в стиле короля Людовика, много зеркал, на дубовом паркете роскошная медвежья шкура. На окнах массивные шторы багряных тонов. Комната метров тридцать, а повернуться негде. Судьба забросила меня в логово дорогой женщины, живущей по законам волчьей стаи.
Вернувшись на кухню, я удобно устроился на кушетке, обложившись подушками и установив все припасы на расстоянии вытянутой руки. Мирно долакал «Распутина» и не спеша приступил к коньяку. Курил, вяло жевал консервы и яблоки. Ни один тревожный звук не долетал до моего слуха. Уютно тикали настенные часы. Верхний свет я потушил, оставя лишь мраморный ночник в виде совы с распахнутым клювом. Я и сам, как эта сова, залетел негаданно, сослепу в подземелье химер.
Татьяна не вернулась ни через три часа, ни через четыре, и в восьмом часу утра, когда я проснулся, ее тоже не было в квартире.
Это меня не удивило и не взволновало. Чувствовал я себя превосходно. Похмелья как не бывало.
Приняв душ и напившись крепкого чая, я позвонил в контору, где регулярно подрабатывал на вызовах. Мастер Толяныч, снявший трубку, весело сказал: «Подскакивай, дружок, есть два неплохих заказа».
На столе я оставил записку: «Спасибо за ночлег. Позвоню днем. Женя».
Мой бедный, старенький, поседевший «жигуленок» стоял там, где я его вчера оставил: одним колесом чуть не вцепившись в мусорный бак.
3
Мастер Толяныч (Петров Анатолий Сергеевич) прожил жизнь удалую. Только годам к пятидесяти малость поутих, помудрел, замкнулся в себе. Как раз к этому сроку у него впервые завелся настоящий паспорт и вид на жительство, прописки пока еще, правда, не было. Снимал он комнату в Мытищах и исподволь подыскивал женщину для совместного проживания на ее жилплощади. Впрочем, за Москву он особенно не держался, это был никому не обременительный каприз уставшего шляться по миру человека, способ позднего самоутверждения. В сущности; ему было безразлично, где скоротать остаток дней.
Судьба уготовила ему бродяжью долю, и он с достоинством ее принял безропотно, промотавшись сорок лет по окраинам великой державы, из поселения на поселение, из зоны в зону. Всему виной, и он сам это отлично понимал, был его строптивый нрав и какое-то поразительное, бившее из него, как лава из вулкана, грозное свободолюбие. Людей, подобных ему, не умевших стерпеть и малейшего намека на ущемление, я, пожалуй, больше и не встречал. Облик у него был медвежий: крутая, налитая мощью осанка, кривые (колени перебиты в одной из драк), коротковатые ноги, как две перекосившиеся стальные опоры, и крупный, четко обрисованный череп с выпуклыми надбровными дугами, расплющенным носом и упрямым, улыбчивым ртом. Глазки у него были маленькие, веселые, ясные и цепкие.
Мастер Толяныч был золотой. Называл он себя плотником, но не было на свете работы, с которой он бы не управился. Построить дом под ключ — пожалуйста, устранить неисправность в двигателе любой иномарки — да ради Бога, провести электричество — милости просим, только плати. Работящ был люто и так же люто презирал халтурщиков. Для конторы он был незаменим, платили ему щедро, да и сам он, говорят, драл с заказчиков нещадно, по-детски радуясь не деньгам (их он тратил и раздавал легко), а тому, что наконец-то может сам назначать плату за свою работу и получать сполна. За то, что ему была дана такая возможность, он полюбил Горбачева, а в нынешнем году не поленился проголосовать за Ельцина, хотя в честную минуту признавал, что оба они нелюди. Стоило ему заподозрить кого-то в сочувствии к коммунистам, как этот человек становился ему противен, и он порывал с ним всякие отношения, в том числе и договорные. Возвращал аванс и откланивался, бурча под нос глухие проклятья.
Сегодня Толяныч дежурил в конторе, отвечал на звонки, вел журнал учета и принимал заказы на всевозможные виды услуг. В бумажной работе, как и в любой другой, он был добросовестен, въедлив и получал от нее удовольствие. По-хозяйски расположился за двухтумбовым столом, где с правой руки у него был термос с чаем и тарелка с бутербродами, а с левой — толстая регистрационная книга.
Рукопожатие у него было крепкое, ладонь властная и сухая.
— Долго спишь, Женя, — приветливо он поздоровался. — Чаю хочешь?
За те три месяца, что я подрабатывал в конторе, мы с ним сошлись по-приятельски, хотя общего у нас было столько же, сколько общего у чурки с колуном. Главное, политические взгляды наши сильно разнились: я был либерал с уклоном, как выяснилось за минувший год, в монархическую идею, а он — стихийный анархист с мечтой о Божьей милости для любого трудящегося человека. В спорах мы с ним уже раза два доходили до прямых взаимных оскорблений, зато к женщинам относились одинаково уважительно.
— Допустим, — сказал я, с благодарностью принимая из рук Толяныча стакан крутого чая с добавлением зверобоя. — Допустим, ты прав и коммуняки как раз и есть враги рода человеческого. Но как же ты тогда поддерживаешь Ельцина? Он ведь из всех коммуняк самый и есть матерый коммуняка. Он Ипатьевский дом взорвал.
— Не заводись, — буркнул Толяныч, настроенный благодушно. — Пей чай и катись. Вот тебе адреса. У обоих «Рубины» барахлят. Я записал, что к чему.
Мельком глянув на бумажку, я увидел, что ехать придется на Ленинский проспект, а оттуда на Мосфильмовскую. Крюк не велик, к обеду управлюсь.
— Ответь, и уеду. Мне надо понять. Почему ты, рабочий человек, поддерживаешь новых большевиков.
— Лучше все равно не будет, — буркнул Толяныч, начиная хмуриться. — А этот раскаялся и коммуняк проклял. Ему деваться некуда. Или он коммуняк задавит, или они его.
От злости чай стал у меня поперек горла. Толяныч победно улыбался.
— Ты пойми, — заметил он примирительно. — Какой он ни есть, мне с ним детей не крестить. Мне на него вообще плевать. Но при нем я свободный стал. Куда хочу еду, что хочу делаю. Никто за руку не ловит и не вопит: это не твое, отдай в общий котел. То есть коммунякам на пирование. Тебя бы с мое погоняли, тогда бы уразумел кое-что.
— Хорошо, пусть так, — сказал я. — Тебя гоняли, травили, а за твой счет восемнадцать миллионов коммунистов жили припеваючи. Согласен. С тобой спорить без толку. Но запомни мои слова, мастер: когда тебя эти ряженые придавят по-настоящему, не к коммунякам, к черту за подмогой кинешься. Только поздно будет.
— Не кинусь, — успокоил он. — Пей чаек, а то остынет.
— Поразительно! Их грабят, а они ликуют. Где же ваш ум?
— У тебя, видно, его много накопилось. Поделись, коли не жалко.
Но я умным не был и давно это понял. История, как для большинства людей, открывалась мне в отдельных ликах, и в отдельных событиях. Лишь иногда, очень редко, в минуты болезненного, шизофренического просветления я ощущал томительный гул вечности, фатально втягивающий мир в воронку необратимых и далеко не лучших перемен.
— Говорить с тобой нету сил, — сказал я Толянычу, — потому что ты закодирован. Поеду лучше на задание.
— Дак и правильно, — обрадовался мастер. — Всегда лучше помолчать, чем чушь молоть.
…На Ленинском проспекте дверь открыла пожилая женщина, причем распахнула ее настежь, едва услыша суровый пароль: «По поводу телевизора». Обычно прежде, чем отпереть, долго выспрашивают через дверь, и всегда этот унылый допрос оставляет тягостное впечатление, хотя все понятно. Люди предпочитают спокойную голодную смерть ножу бандита. Оттого и скамейки в парках давно опустели, и по вечерам пустынно на улицах, как при комендантском часе.
Женщина провела меня в комнату, что-то взволнованно щебеча, но я не прислушивался. И так было ясно, что поломка телевизора для нее равноценна отсутствию ежевечерней дозы для наркомана. Ее ломало без волшебного огонька «Санты-Барбары» и «Шансов». Тоже до боли знакомая картина искусной интеллектуальной стерилизации обывателя. Необольшевистский режим окончательно утвердился только тогда, когда демократам удалось монополизировать телевидение. То же самое предстоит сделать и грядущему диктатору, каких бы он ни был кровей и идей. За вкрадчивым и наглым голоском голубого друга народец попрет куда угодно, как стая крыс за дудочкой ребенка. И если с экрана втолкуют: «Распни его!» — народ без раздумий распнет и святого и грешника, испытывая гордое чувство гражданского удовлетворения.
Пока я вскрывал «ящик», женщина мельтешила по комнате, что-то жалобно бормоча, и по отдельным репликам я понял, что она находится на переходной стадии от демократов к «красно-коричневым». Чрезвычайно дискомфортное состояние. У нее было худое, нервное лицо. Моя подчеркнутая хмурость действовала на нее угнетающе. Но если бы я стал улыбаться и вести себя по-человечески, мне было бы невозможно затребовать с нее лишнюю тысчонку.