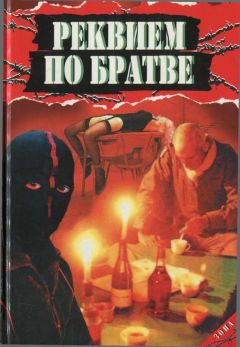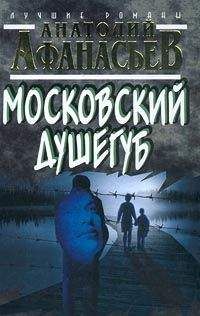Анатолий Афанасьев - Грешная женщина
— Елизару Суреновичу очень худо. В нашем возрасте, знаете ли, лучше не ездить по минам. Мне кажется, он хочет передать вам что-то важное.
— Какие гарантии, что я вернусь домой?
— Дорогой Алексей, гарантий, разумеется, нет никаких, по поверьте моему слову. Если бы он имел намерение, ну вы же сами понимаете…
— Что я должен понимать?
Иннокентий Львович попросил разрешения закурить и тут же его получил. От его обтекаемой фигуры и круглого, блинообразного лица веяло неколебимым благодушием. Кто не знал, мог бы принять его даже за иностранца, приехавшего лечить русских сироток, недополучивших гуманитарной подкормки. Но Алеша-то его знал хорошо, хотя больше по слухам, потому что чем лучезарнее расплывался его лик, тем крепче утверждался в мысли, что Елизар Суренович, похоже, затеял напоследок какую-то суперподлянку.
— Не будьте бессердечным, Алеша, — Иннокентий Львович страдальчески скривился. — Старику нашему, судя по всему, недолго осталось мучиться. Желание повидаться с вами продиктовано, как я полагаю, отнюдь не враждебными чувствами.
— Это я понимаю. Он всегда меня любил.
— В жизни человека, кем бы он ни был, наступает минута, когда все суетное, греховное отступает на задний план. Ему хочется обыкновенного человеческого участия. Поверьте, Алеша, никто так не нуждается в утешении, как самый закоренелый злодей. Вам самому предстоит это когда-нибудь испытать.
— Давайте поедем к нему прямо сейчас, — предложил Алеша…
В Кунцевской больнице, бывшей обители изнуренных заботами о народе обкомовцев, Благовестов занимал отдельный двухэтажный особняк, с парадным крылечком, как у княжеского терема. Все окна особнячка были забраны стальными решетками. В холле первого этажа дежурили трое дюжих охранников. Алеша не удивился бы, если бы ему навстречу высунулось пушечное жерло. Многие солидные люди, конечно, имели к нему претензии, но еще больше было тех, чье благополучие, а может, и сама жизнь зависели от Благовестова.
Паче ожидания Алеша застал владыку не стенающим на ложе страданий, а бодро восседающим в кожаном, с многочисленными блестящими приспособлениями кресле перед накрытым к полднику столом. Комната никак не напоминала больничную палату: это была обыкновенная городская гостиная преуспевающего бизнесмена — скупо, но богато меблированная, с затененными окнами, с непременным ковром по полу — без всякого намека на казенный лоск. В комнате, кроме Благовестова, находилась чопорная дама лет пятидесяти, в одеянии монахини и в каком-то замысловатом черно-белом капоре. Впрочем, при Алешином появлении Благовестов даму сразу шуганул.
Они не виделись года три, и Алеша не нашел в старике особых перемен. Та же вальяжность осанки и тот же сверкающий, темный взгляд из-под веселых бровей. Разве что лысина лоснилась еще более пергаментным отливом.
Вместо приветствия Благовестов пошутил:
— Поспешил ты, Алешенька, ухайдакать добродушного старичка. А самое главное, не пойму, зачем тебе это? Какая особенная корысть тебе в моей смерти? Если не затруднительно, объясни, пожалуйста.
— Это не я, — сказал Алеша. — Разве бы я посмел?
— Располагайся поудобнее. Хочешь, налей кофейку. Беседы у нас редкие с тобой, каждая на счету. Поэтому, прошу тебя, обойдись без цирка. Не разучился ведь еще по-человечески разговаривать?
Алеша развернул пакет, который держал в руках, и поставил на стол драгоценную статуэтку. Ахалтекинский скакун с бриллиантовыми глазами мчался сквозь время, и ничто не могло его остановить.
— Возвращаю, больше за мной нет долгов. Мы квиты, Елизар Суренович.
— И это не долг, мальчик. Ты же знаешь. Оставь безделушку себе. На память о сумасшедшем старике, который, в сущности, всегда желал тебе добра.
— Я это особенно почувствовал, когда коптил небо в зоне.
— Наука жестокая, не спорю, но ведь тебе на пользу пошла. Признайся, а?
Алеша подумал, что напрасно явился на запоздалый зов. Отживший владыка был ему скучен. В старинные времена этот человек схватил его судьбу в железную горсть и толкнул в направлении, с которого после уже нельзя было свернуть. Но это слишком примитивное толкование судьбы. Наверное, в его собственных клетках, в его характере, разуме и воле была записана роковая предрасположенность к тому, чтобы однажды воспротивиться общепринятому порядку вещей. О да, он пошел по плохой дороге, но разве виноват в этом Благовестов или кто-нибудь другой? Просто эта дорога была для него, такого, каким он уродился, единственной, из всех возможных. Даже его бедный отец в конце концов это понял. В прошлом году его зашибли на первомайской демонстрации, куда он поперся, тоже следуя, видимо, закодированной в клетках программе, хотя сам Алеша большей дури не мог и представить. Попрощались они по-хорошему, без обид, и отец в смертном бреду благословил его на дальнейшие подвиги, сунув в руку какой-то гвардейский значок. Он жил солдатом и умер полковником, и иногда Алеша горевал об его преждевременной кончине. В отличие от отца Елизар Суренович был таким же подрывником, как он сам, он подрывал устои и ненавидел, не терпел любую власть над собой, навязывал миру свою собственную, лихую, но — чудное дело! — Алеша не испытывал, не ощущал с ним родства. Чужее всех чужих был ему неукротимый владыка. И не потому, что заслал в тюрьму, а потому, что в его паучьей повадке, в его смрадном дыхании была какая-то неведомая зараза, как в крови женщины, несущей СПИД. Была ли эта зараза уже в нем самом, вот в чем вопрос.
— Тошно тебе тут, Елизар Суренович, — Алеша невинно улыбнулся. — Хочешь, Настю пришлю? Побалуешься еще разок.
Насмешка не задела старика, но повергла как бы в отчаяние.
— Всем ты хорош, Алеша, но циник. Какой же ты циник! Неужто нет для тебя ничего святого?
— Скажи, зачем звал-то?
— Рано хоронишь, Алешенька. Уйду, когда сам пожелаю. Наследника нету, это тяжко. Некому дело передать. На тебя, дурака, рассчитывал, да, видно, ошибся. Ступай себе с Богом. Но больше уж так не шали. И этот грех, который случился, еще отмолить придется.
Молча Алеша поднялся и пошел к дверям. Оставил за владыкой последнее слово, но себе не в убыток. И пока проходил больничным садом, думал: надо спешить. Надо валить старую образину, выпрямляться в полный рост и брать мир за рога по-настоящему, намертво…
После его ухода заглянул к владыке Иннокентий Львович. Сердобольно попенял за открытое окно:
— Октябрь — не лето. И кондиционер работает. Зачем такое легкомыслие. Сквознячок в ухо влетит, тут и пневмонийка рядышком. Тебе это надо?
— Не люблю я твоих кондиционеров. Хорошего воздуха хочу, натурального. После грозы-то! Как дышится на воле, а, Львович?
— Надышишься еще. Кости давно ли срослись?
Елизар Суренович с отвращением надкусил розовое яблоко.
— Проводил звереныша?
— Через сад шарахнул, аки лось.
— Придется с ним как-то решать.
Иннокентий Львович нацедил жижи из кофейника.
— Да я тоже, знаешь ли, к этому склоняюсь. Не хватает ему все же душевной тонкости. Какой-то он неблагоприятный для наших планов. Какой-то бесперспективный. Овчинка, как говорится, выделки не стоит.
— То-то и оно, — вздохнул Благовестов. — Гордыня ему свет застит. От нее лекарства нету, кроме могилы.
ИЗ ДНЕВНИКА ТАНИ ПЛАХОВОЙ
14 июня. Все чаще думаю, почему жила так гнусно, нехорошо? Что мешало жить иначе? Да я ли одна? Посмотришь, иная пигалица — и умная, и красивая, и с голоду не подыхает, а не успеют грудешки набрякнуть, уже вывалялась в грязи. Уже ищет, куда бы вмазаться погуще. И что в результате я видела, кроме наглых, бесстыжих, похотливых рож?
Куда делись все тридцать два моих лазоревых годочка? На что их потратила? Где мой сын и где моя дочь?
Женек, прости меня, родной мой!
Когда с тобой познакомилась, стало полегче. Хочу, чтобы ты знал. Где был ты — там была любовь…
1993 — 1994 гг.