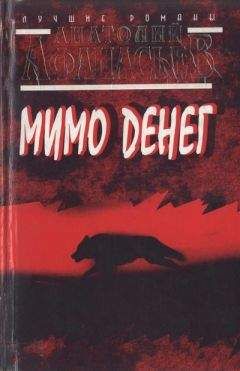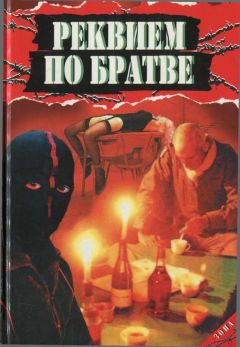Анатолий Афанасьев - Сошел с ума
Никто ей не ответил. Настал наш черед идти в кабинет.
Вельяминов ничуть не изменился со времени нашей последней (и единственной) встречи — бешеный взгляд темно-синих глаз, дергающаяся щека, — зато со мной произошло достаточно метаморфоз, поэтому я не стал, как в прошлый раз, торчать посреди комнаты, а сразу уселся в удобное кресло. Лиза примостилась рядышком.
Она как раз первая заинтересовала Сидора Аверьяновича:
— Кто такая? Зачем здесь?
— Трубецкого шпионка, — Федоренко стоял посреди ковра, руки по швам, в одной руке раскуроченная оправа. — За писателем увязалась.
Сидор Аверьянович вгляделся в подчиненного внимательнее, уголки губ скривились в ухмылке:
— Кто это тебя так, Иван?
— Вот эта стерва.
Вельяминов заулыбался шире, и это было похоже на то, как если бы из пирога вытекла сладкая начинка.
— Чего же ребята недоглядели?
— Ребятам досталось не меньше, — честно признался Федоренко.
— От этой пигалицы?.. Плохо верится, но бывает. Эдик умеет подбирать кадры. Все же не пойму, почему она здесь, в кабинете? Кто ее приглашал? Может быть, ты объяснишь, Михаил Ильич?
— Это одно из условий. Она должна присутствовать при разговоре.
— Чье условие?
— Трубецкого.
— Трубецкой ставит условия? Любопытно, — Вельяминов выбрался из-за стола, подошел к Лизе. Он был в хорошем настроении.
— Как тебя зовут?
— Лиза.
— Как же тебе удалось, Лиза? Одолеть таких орлов? У тебя весу-то, думаю, два пуда.
— Повезло, — Лиза доверчиво улыбалась. — И потом, я много тренируюсь. По системе Судзуки.
— Ко мне пойдешь работать?
— Как это?
— А вот так. Сколько тебе Эдик платит?
— Эдуард Всеволодович платит не много, но он мой друг. Мне много и не нужно.
— А я не гожусь в друзья?
— Почему не годитесь? — в Лизиных очах блеснули плотоядные огоньки. — Вы видный мужчина.
— Знаешь, кто я?
— Да.
— И кто же?
— Вы большой босс. Для меня честь разговаривать с вами.
— Зачем же моему Ванечке очки разбила?
— Погорячилась, Сидор Аверьянович. Думала, бандит.
— Учись, Иван, учись у молодежи уму-разуму, — Вельяминов был так чем-то доволен и так увлекся, что, казалось, забыл про меня. Но нет. — Ладно, Лиза, сиди, слушай, коли такое условие. Мы с тобой после пообщаемся, отдельно. Может быть, вечерком, — повернулся ко мне. — Ну, писатель, давай теперь ты. Выступай.
Я достал конверт с запиской Трубецкого, протянул Вельяминову. Он тут же распечатал, прочитал.
— Знаешь, что здесь написано?
— Нет.
— А что велено передать на словах?
Я сказал, что Трубецкой просит о личной встрече, но при гарантиях, что не будет западни. Он предлагает следующее. Сидор Аверьянович всего лишь с двумя телохранителями завтра утром приедет в определенное место, которое я назову позже. Оттуда я позвоню по одному мне известному номеру, доложу обстановку, и через полчаса подъедет Трубецкой. Один, без всякой охраны.
Вельяминов сел рядом и положил руку мне на колено. Рука была горячая, прожигала штанину. Щека у него дернулась всего два раза за все это время, но на второй раз левый глаз закрылся полностью.
— Дорогой Михаил Ильич, — произнес он ласково. — Ты ведешь двойную игру, я не думаю, что это тебе по силам. Давай объясню кое-что. Эдичка прекрасно понимает: его песенка спета. Он слишком много, не по чину, хапнул. В состоянии агонии он, как паук, втягивает в свои сети все больше безвинных людей, обрекая их на гибель. И ты, и твоя дочь, и эта милая девушка-каратистка, увы, в их числе. Ни у кого из вас почти не осталось шансов выжить. Я говорю так прямо, потому что уважаю, люблю культурных людей. Поверь, мне искренне жаль, что ты по неведению, по глупому азарту, увлекшись падшей женщиной, сунул голову в петлю.
— Что же мне делать?
— Не знаю, дорогой. Честно говорю: не знаю. Был у тебя шанс, ты его профукал. Хитрил, химичил. Напортачил много. Кого хотел обдурить, Миша? Я тебе сам отвечу. Не меня, не Ванечку — ты судьбу понадеялся взять за жабры. Ты ошибся, старичок. У тебя силенок маловато. Теперь даже не знаю, как с тобой поступить. Ты ведь и сейчас притворяешься, вижу. Глазенки-то бегают, бегают. Погубил ты себя, Ильич! А сколько хорошего мог еще сделать людям. Столько добрых книжек написать. Ты бы писал, мы бы с Ванечкой читали. Разве плохо? Денежек тебе не хватало? Пришел бы, попросил, я никому не отказываю из вашего брата. Вот сейчас видел, кто ко мне заходил?
— Видел.
— Не самые последние люди, да? И не считают зазорным поклониться. Почему, спросишь? Потому что понимают суть происходящих в обществе перемен. А ты, видать, не понял. Да и Трубецкой, за которым ты потянулся… Вот что меня изумляет. Смышленый человек, образованный, и не заметил, как поезд ушел. Его стихия — авантюра, беспредел, а сегодня эта карта уже не играет. Сегодня опять закон торжествует. Только мы его заново переписали, пока вы ушами хлопали, понимаешь, писатель? Это хороший, справедливый закон, он охраняет честных, предприимчивых, богатых людей, а всякую шушеру и мелюзгу, которая только и ищет, где бы на халяву ухватить кусок пожирней… Смотри, как любопытно получается, Миша. У меня, признаюсь, пять классов начальной школы за плечами да несколько ходок, но я шагаю в ногу со временем, и я уважаемый государственный человек. На моей стороне собственность и право. А вы с Эдичкой позаканчивали университеты, пыжитесь, храбритесь, норов кажете, но сгниете в помойной яме. Ты думаешь — казус, обман зрения, а я скажу — историческая закономерность. Вот так-то, писатель. Мир всегда стоял на трех китах — деньги, власть и порядок, а кто думает иначе, тот сам дурак.
Он так долго говорил, что я успел докурить вторую сигарету; но слушать его было поучительно. Он немного путался в умозаключениях, но в главном был прав. Деньги и власть правят миром, и порядок установили новые хозяева жизни, мутанты, пожиратели протоплазмы, поэтому спорить с ним, доказывать, что существуют другие ценности, которые для многих людей важнее, чем деньги, бесполезно. Да и не ко мне была обращена пылкая речь. Возможно, это была репетиция каких-то завтрашних публичных выступлений. Все-таки выборы на носу.
Федоренко доломал очки и горестно поник, разглядывая две уродливые половинки оправы. Лиза внимала словам Циклопа с таким выражением, будто встретила пророка.
— Что молчишь? Язык проглотил?
Во рту у меня действительно пересохло, но язык был цел.
— Трубецкой ждет ответа, — сказал я. — Что ему передать?
Вельяминов сморщился в досаде — не в коня корм! — отошел к столу, попутно слегка хрястнув Федоренко по затылку:
— Проснись, помощничек! Слышишь, писатель интересуется, что Эдичке передать. О себе не думает. С ним-то что будем делать, Иван?
— Может, еще разок простим? Глупый он, одурманенный. Но в сущности безобидный.
— В тихом омуте, Ваня, черти водятся. Ты тоже Иисуса из себя не строй. Из-за таких безобидных все убытки… Хорошо, Миша, ступай, посиди в приемной, я подумаю малость. А ты, девушка, задержись…
Лиза осталась в кабинете, я поднялся и вышел. Мне-то что. Мавр продолжал делать свое незатейливое дело.
Пухленькая секретарша будто только меня поджидала, подняла дымящийся кофейник. Подмигнула шаловливо:
— Вам с молоком или без?
— Пожалуй, без.
Принял из пухлых ручек фарфоровую чашку. Глотнул не задумываясь. Какая-то терпкая смоляная горечь потекла в глотку.
— Что за кофе, чей?
— Самый лучший. Яванский.
Я еще отпил. Ничего, горячо. Уселся в кресло, располагая покурить. По-дурацки улыбался. Надо же, еще сто лет пройдет, а общество красивой женщины все так же будет вызывать в груди тихое блаженство. В дверь вошел высокий мужчина с суровым лицом, с какой-то белой тряпицей в руках. Шагнул ко мне.
— На-ка, нюхни, дружок.
Я не хотел ничего нюхать, взмахнул ручонками, облив колени горячей жидкостью. Мужчина плотно придавил тряпицу, сжав голову словно в железных тисках. Заплясали в мозгу яркие желтые свечки, больше ничего не почувствовал…
23. ПРОЩАЙ, ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
Очнулся — и не пойму, где я? Эдгар По, помнится, больше всего на свете боялся именно таких пробуждений. Ему все чудилось, что он уже в гробу, в могиле, под землей. Он страдал летаргией и опасался, что однажды родственники не отличат спящего от усопшего и похоронят его заживо. В одном из рассказов он приводит жутковатые свидетельства того, что многих хоронят заживо — кого по ошибке, а кого и с умыслом; при раскопках старинных погостов обнаруживают сидячие скелеты, либо скелеты в невероятных, скрученных позах, что доказывает, с какой немыслимой энергией живые трупы пытались в страшных корчах пробиться обратно на белый свет. Великий Эдгар предвидел, что его ждет похожий конец, но умер он, как известно, нормальной, спокойной смертью, накурившись анаши, на скамейке в городском парке.