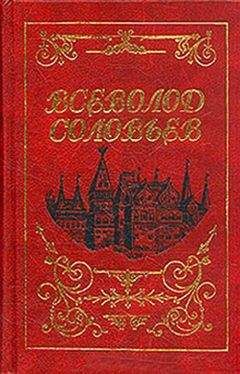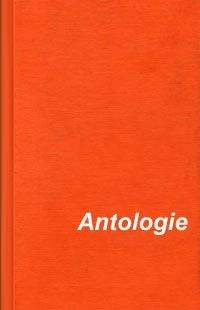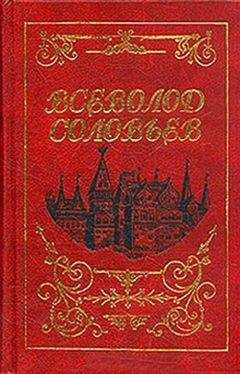Антон Французов - Нешкольный дневник
Она принимала все это совершенно равнодушно, на одежду и не смотрела, как будто не новенькие вещи были, а так — барахло на выброс. Складывала и клала в шкаф. Косметику не трогала.
Я сам в то время работал у Коли Голика. Работал — это, конечно, громко сказано. На самом деле мы целыми днями сидели в офисе, здоровенной комнате с железной дверью и несколькими зарешеченными окнами. Ребята там были преимущественно после отсидки, потому с решетками на окнах им как-то привычнее было. Все молодые — самому старшему и двадцати трех не было. Все тупые, просто жуть! Был там один Борян — Вырви Глаза. Бригадир. Внешность у него такая была, что в самом деле хочется себе глаза повыдирать, чтобы его рожу силикатно-кирпичную больше не видеть никогда. Так вот, Борян этот так вообще даже читать толком не умел, а что Земля вокруг Солнца вращается, было ему глубоко до фени. Голова у него была маленькая, бритая и мясисто-ушастая, зато сидела на таких монументальных плечах, что все комментарии насчет повышенной бритости и ушастости умирали сами собой. А я среди этой чудной братии был самый молодой, пятнадцатилетний. Обязанности мои, да и остальных тоже сводились к тому, чтобы делать сбор с нескольких лотков и трех-четырех кооперативов. Биржу одну держали.
Ходили всей кодлой, тупо вваливались в нужный офис, ну и вот так. Коля Голик только сначала работал со мной напрямую, а потом он как-то повысился в бандитской иерархии, из бригадиров перешел в более крупные персоны, чуть ли не авторитетом заделался. Стал приближенным самого конкретного брателлы нашего района — некоего Котла. Я теперь его редко видел, а потом произошла разборка, в результате которой половину нашей бригады положили рядком, а вторая полови на разбежалась как тараканы. Я, к счастью, угодил во вторую половину и «разбежался» очень качественно. После этой злополучной разборки я пришел домой весь в крови, перед глазами дурнотно колыхалось что-то мутно-багровое, сочащееся кровью, а куда ни глянь — мерещились мне серые брызги, точь-в-точь как те, что веером вылетели из головы Боряна — Вырви Глаза, когда в нее, в голову, засадили чуть ли не целую обойму. Так Борян в первый и последний раз обнаружил, что у него в голове все-таки есть мозги.
Алка, когда меня увидела, ничего не сказала. Она была какая-то пепельно-серая, как наш потолок, который с самой смерти деда тщетно взывал о ремонте. Прикрытые глаза — как трещинки, черные, тоскливые.
Я стоял, опустив руки, и когда она открыла глаза, я вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком. Да я и был им в свои пятнадцать, просто меня вынудили повзрослеть очень рано. Она сказала:
— Ты знаешь, сын, я больше так не могу.
Она не называла меня сыном лет десять — с тех пор как выговаривал непослушными губами под одобрительным взглядом Коли Голика: «Му-дак».
— Что не можешь… Алка… мама?
— Я больше не хочу сидеть дома. Я не могу. Ты говорил мне, что я должна изменить свою жизнь, что эта жизнь была неправильной и несправедливой и что я заслуживаю лучшего. Что ж, может быть, и заслуживаю. Но, скорее всего, я никак не заслуживаю этой твоей мифической новой жизни, потому что я не вижу, откуда она может прийти и каким образом… как я Могу к ней прийти. И не хочу я никакой новой жизни. Меня тянет… ты можешь меня ругать, но меня тянет, как к алкоголю, как к наркотику, к этой старой жизни. Ты, наверно, еще маленький, Рома, чтобы понять, что такое — магия ночного города. Я всегда знала, что под этими крышами, под этими крышами много гнили, много подлости. Много яда. Наверно, этот яд меня отравил, и отравил безвозвратно. Я не могу сидеть дома, Рома, я не могу, точно так же как я не могу работать кем-то… кем угодно, это несущественно кем, уборщицей, продавщицей, телеграфисткой или хоть директором магазина… я не хочу, понимаешь? Ты прекрасно знаешь, чем я зарабатывала нам на жизнь, но все-таки напрямую мы об этом старались не говорить, а теперь я хочу сказать прямо: я почти пятнадцать лет, с самой юности, почти с самого твоего рождения, была проституткой. Да, это жуткая и жестокая работа. Но это работа, и это единственная работа, которую я могу выполнять по-настоящему хорошо. — Она несколько раз облизнула губы, словно на них было варенье или сладкий джем, как тот, который она привозила мне из Болгарии в самом детстве. — Мне плохо, Рома. Не потому, что я больна или как-то… — она с трудом подбирала слова, словно слишком много она сказала перед этим и теперь никак не может восполнить убыток сил и мыслей. — Я жалею о… о Клепе. Да, он был подонком, он использовал меня, но ты понимаешь… я знала его слишком долго, чтобы вот так запросто вырвать из своей жизни. И девчонки… после смерти Клепы их раскидало кого куда. Кто нашел себе новых сутенеров, кто спился, кто-то, быть может, и нашел в себе силы выкарабкаться из этого болота. У меня нет таких сил. Меня тянет, как магнитом, тянет назад.
— Что ты хочешь мне сказать? Ты что… хочешь вернуться… на панель?
— Да, Рома. Не знаю, ты действительно помог мне тогда, и Коля Голик тоже. Наверно, если бы не ваша помощь, Клепа вписал бы меня в какой-нибудь уж совсем конкретный гниляк, из которого я не выползла бы. Но я жива, а он — нет. Вот так. А сегодня мне позвонила одна моя знакомая, спрашивала о том, как я живу, интересовалась, чем я собираюсь заниматься. Я сказала, что живу как в сказке. В сказке про Царевну-Несмеяну, которая безвылазно гнила в своем тереме, а все удивлялись, а что это, собственно, царевна такая кислая и не улыбается?
Я спросил хмуро:
— Что за знакомая?
— Ее зовут Ильнара. Она когда-то со мной работала, старше меня лет на семь. Только она теперь не просто Ильнара, проститутка, а — «мама». Коммерческий директор эскорт-фирмы, — пояснила Алка. — У нас их в городе уже несколько открылось, одна из них — «Виола», контора Ильнары.
— Значит, цивилизованное блядство по западному образцу, с эскорт-фирмами, а не с залетными сутерами, которые сами себе и «крыша», и хозяин, и водитель, и охранник? — отозвался я. Стоп. Нет, вру. Не мог я тогда так сказать. Во-первых, я таких слов-то тогда не знал и оборотов пышных (а после полугора месяцев общения с Боряном — Вырви Глаза и тому подобной братией и Пушкин бы мычал, как обезьяна), а во-вторых, ничего я еще не понимал в цивилизованном или нецивилизованном блядстве. Нет, конечно, девственником я уже давно не был, с таким-то счастливым детством и внешностью, которая, в отличие от детства, была на самом деле счастливой, в прямом, а не в издевательском смысле этого слова. Девственность, с которой в наше время многие спешат расстаться как можно быстрее, я потерял без всяких проблем в женской раздевалке бассейна «Дельфин». Произошло это примерно за три месяца до того, как мне исполнилось тринадцать лет. Но уже тогда я имел плечевой пояс и грудную клетку, которых практически любой взрослый мужчина не постыдился бы, а отдельные задохлики вообще могут только мечтать.
Я по ошибке заглянул не в ту раздевалку.
Ошибка от усталости — за тренировку я отмахивал иной раз по нескольку километров и чувствовал себя после этого как загнанная лошадь. Девушками я, конечно, уже интересовался, акселерация все-таки, но отношений как-то не завязывалось даже на уровне разговоров. Была там одна такая Яна, лет пятнадцати или шестнадцати, разбитная девица, которая давно меня присмотрела в качестве… бог знает в каком качестве она меня мыслила. Но только смотрела на меня маслеными глазками. У нее все в порядке было с фигурой, с грудью особенно, размер третий, наверно, да и купальники она носила дорогие, классные, яркие. Вот эта Яна и выступила застрельщицей. Меня, здоровенного лося, жавшего сотку в тренажерном зале, изнасиловала стайка малолеток
На ловца, как говорится, и зверь бежит. Я вошел в раздевалку и тут же встретил взгляд Яны. Она была только после душа, в одном полотенце. Я смутился и, пробормотав что-то жалкое и раздавленное типа «Ой, я не туда, кажись…», попытался выскочить из раздевалки. Но тут за моей спиной щелкнул замок, я обернулся и увидел прислонившуюся к двери низенькую, толстую девчонку, уже не помню, ни как ее звали, ни как она выглядела.
Яна сказала:
— Да нет, Рома, ты попал именно туда.
— Ты попал, — неожиданным басом сказала низенькая. Вообще у людей такой комплекции обычно писклявый голосок, взять хотя бы эту Ильнару Максимовну, у которой потом в «Виоле» работал.
Яна продолжала:
— Вот что, Рома. Ты мне нравишься. Да ты всем нравишься, правда, девчонки? — «Правда!» — отозвался кто-то из душевой, и Яна продолжала: — Ты, конечно, всем нравишься, но только ты какой-то странный. Стремаешься нас, как будто мы мегеры какие. Обсоски водяные, как говорится. В общем, так ты сейчас с нами трахнешься, и свободен. Ты, наверно, еще девственник, поэтому кобенишься. Нас тут шестеро, но ты молодой совсем, мальчонка, так что выдержишь. А вот если ты попытаешься отсюда улизнуть, — повысила она голос, заметив мое невольное движение к двери, — так учти: мы тут же поднимем шум, скажем, что ты вломился к нам в раздевалку, буянил, хотел изнасиловать… ну, скажем, меня. Тебя, конечно, не посадят, возраст у тебя неподсудный, но неприятности тебе гарантированы, мой отец — замминистра спорта в областной администрации, и из секции тебя точно выгонят. О плавании тогда можешь забыть. Ну что уставился? Давай!