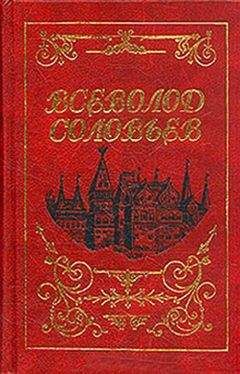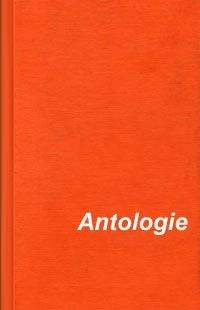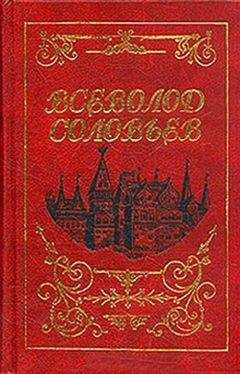Антон Французов - Нешкольный дневник
Застал я его в ресторане при гостинице его братца-адми-нистратора: Клепа всегда тут ошивался, когда было у него свободное время. Тряс баблом, надоенным с клиентуры. Меня он не узнал, потому что не видел уже лет пять, а я сильно изменился. Не на пятнадцать неполных, сколько мне тогда было, а на все восемнадцать, а по фигуре и на двадцать тянул.
Я присел к нему за столик и сказал:
— Ну здорово, Клепа. Хорошо обед хомячишь. Наверно, аппетит хороший с трудов?.
Он так прищурился и произнес:
— А что так борзо? Ты кто такой? Вышибала, что ли? Ракетчик отмороженный? Ну так тут не твой каравай, так что поднимай зад и стриги отсюда ножками.
— Что-то ты по-другому начал разговаривать. А раньше, помнится, стихи мне читал.
Он уставился на меня, потом переложил голову с одного плеча на другое, как попугай, и выговорил наконец:
— Погоди… так ты что, Роман… Алки Светловой сын? Нет, правда, что ли? Нуда… точно! Ты глянь, как вымахал! — Он протянул руку и хотел было хлопнуть меня по плечу, но вместо этого попал локтем в салат и выругался.
— Я-то Алки Светловой сын, а вот ты, сутер поганый, непонятно чей сын, если так с людьми себя ставишь, падла, — сказал я первое попавшееся, что пришло мне в голову, и, не дожидаясь, пока он выцедит что-нибудь, взял бокал, из которого Клепа пил коньяк, и плеснул ему в рожу. КакЖирик кому-то там, не помню. Клепин еще отдувался и смахивал коньяк рукавом, а я поднялся, схватил его за шкирку и выволок из ресторана, мне даже охрана не успела помешать. Хотя там вышибалы еще те, у них с реакцией плохо. Это из цикла «эсто-о-онскайяа борза-айя-я; применяется для загона раненых черепах и улиток».
На улице я ему сказал:
— Она мне пожаловалась, что ты ее, Клепа, травишь. И даже ударить позволил себе роскошь.
Он смотрел на меня, как сейчас вижу, не столько со злобой, сколько с каким-то плохо скрываемым недоумением: как, дескать, это и есть тот маленький Рома, который еще недавно в коленки носом тыкался? Я предупредил, что больше Алка с ним не работает и что она теперь бросит эту блядскую бодягу и будет жить как человек. Как она бросит, чем она будет жить и каким образом будет зарабатывать на жизнь, я тогда не задумывался. Я вообще тогда редко отягощал себя обдумыванием сказанного, габариты позволяли. Юношеский максимализм плескал. Передача «Играй, гормон». Закончил я закономерным ударом с левой, который у меня хоть и не поставлен профессионально, но тем не менее кандидат в мастера спорта по плаванию, тем более специализирующийся по баттерфляю… в общем, бедный сутер Клепа отлетел метра на два и растянулся на земле, а я сел в подъехавший автобус, остановка прямо у гостиницы «Саратов» была, — и поминай как звали.
Уже из окна автобуса я видел, как Клепу поднимала охрана гостиницы и как он злобно отплевывался и ругался. Обрывки его лестных обещаний, в том числе такое выразительное, как «вырву щенку потроха», долетели сквозь открытую форточку.
В тот же день я позвонил Голику, и он собственной персоной завалил к нам с Алкой уже ближе к ночи. Был слегка выпивши, сказал, что сегодня поднял себе «ауди», подержанную, конечно. Но по тем временам это было круче некуда, примерно как сейчас — лимузин. Судя по быстроте обогащения, гражданин Голик изрядно поработал паяльником и утюгом с каким-то подопечным бизнесменом.
— Ну че, — говорит, — святое семейство, какие проблемы, ебть? А то ты, Роман, скуксился, я смотрю, как этот… как его… святой Иосиф.
— Откуда это ты таких познаний набрался? — спросила Алка.
— А мы сегодня одного барыгу кололи. Барыга дюже умный, падла, картинки всякие собирает. Говорят, он одну такую картинку продал, бабки срубил, а перед «крышей», передо мной типа, и тово… не отчитался. Я сначала в тему не въехал, а потом как мне пацаны скинули, сколько барыге за картинку отгрузили, я так чуть кони не двинул. В общем, — хитро подмигнул Коля, — вы типа тово… значит, Алка, стол, бля, стругай. Я тут колбасок надыбал, водочки попить культурненько, не все ж самогон трескать. Я сегодня, когда этому барыге утюг на брюхо ставил, разглядывал у него журнальчик с цветными картинками. Че-то гареле… га-ле-рея какая-то Уфимца. Я спросил, кто такой Уфимец, уж не тот ли урод, которому барыга спихнул свою картинку, а оказалось, что это типа выставка такая в Италии.
— Галерея Уффици? — усмехнулась Алка. — Ничего себе — выставка! А «Святое семейство» — это у того барыги, наверно, на стене висела репродукция картины Микеланджело. Да, Коля?
Тот даже запыхтел, на Алку уважительно покосился и лоб поскреб:
— Ну… че-то… да. А ты че, в этих картинках рубишь?
— У нас у Клепы целая стопка альбомов, я их разглядываю, когда время есть, — сказала Алка, — Уффици, Лувр, Третьяковка, Прадо. Целый альбом Сальвадора Дали есть.
— Вообще-то разговор о Клепе и пойдет, — сказал я. — Я сегодня его видел и отгрузил ему по мордасам.
— Кому — Клепе? — переспросил Коля, выпил водки, набрал воздуху в грудь, да как заревет, у меня чуть уши не заложило, а с потолка, кажется, пласт штукатурки отвалился: — Вот это ты молодчинка, паря! Такая тема по мне! Давно пора этого Клепу защемить! Где ж ты его, эта… благословил по харе?
— Возле гостиницы «Саратов».
— О, в самой вотчине, бля. Он, этот Клепа, насколько я разглядел его харю, теперь с тебя с живого не слезет. Так, Алка?
Я стал ему рассказывать. Коля слушал, машинально, как бы между делом, опрокидывал в фиксатую пасть стопку за стоп-: кой, и его лицо все больше мрачнело; к концу моего рассказа его физия представляла разительный контраст с той веселозадорной миной, которой он сопровождал свой культурологический рассказ о барыге, «святом семействе», утюге и паяльнике.
— Одурел, сявка, — подытожил он, — валить надо.
— Куда валить?
— Ты не понял, типа. Не куда валить, а — кого валить. Этого Клепу.
— Коля, не надо, — сказала Алка. — Вечно ты что-то жуткое…
— Жуткое? Как тебя под групповуху совать, так это нормально, бля! Чтобы в конкретный попадос вписывать, это тоже все ничего, ебть! А то типа под зверюг, в натуре!.. — Речь его окончательно стала бессвязной, как это всегда было, когда Колю Голика захлестывали эмоции. Вслед за тремя относительно внятными фразами посыпался словесный хлам и труха, из которой, как звонкие, пустые бутылки из помойки, можно было выбрать, не ошибившись, только неизменные «бля», «ебть», «типа» и «в натуре». Но теперь даже эти словечки не могли придать базару Коли Голика связность и вменяемость, оставалось только терпеливо слушать. И мы с Алкой слушали. Колька прогрохотал заключительное восклицание, с сочным хрустом оттяпал пол-огурца и, орудуя могучими челюстями, рявкнул, отчего во все стороны полетели жеваные кусочки:
— Если не вы его, так он вас! Я этих волчар знаю!
— Может, ты и прав, Коля, — махнула рукой. Алка и отвернулась. Больше она ничего не сказала. Только потом я понял до конца, почему она так тягостно молчала, хотя кому-кому, а именно ей следовало говорить: она боялась за меня и за себя, понимая, что Клепин — это ожиревший и обнаглевший паразит, что он способен абсолютно на все; но одновременно ей не хотелось быть обязанной Коле Голику чем-то серьезным, потому что жизнь человека, пусть в перестроечные времена ценившаяся по бесконечно заниженному курсу, — это все-таки огромная цена, огромная ответственность. Ей не хотелось быть повязанной с Колей Голиком.
Но она тогда не сказала ничего из этого, а через день Клепа был расстрелян в упор в одной из саун, куда он ездил сдавать девочек из своей конторы.
…Начиналась эра крышевания эскорт-контор, начиналось время крутышей и хозяйских сходняков. Конечно, все это появилось несколько позже, но именно смерть первого Алкиного сутера стала для меня, хоть и громко звучит, символом новой эпохи.
И еще — мне суждено было понять и на собственной шкуре ощутить, почему мама Алка не хотела быть обязанной Коле Голику, человеку, который качал меня на коленях и учил нас с Алкой нехорошим словам, которые она так стеснялась выговаривать.
Богатые мамочки, «виола» и мама алка
Алка бросила свою ночную профессию сразу же после того, как «быки» Голика завалили сутенера Клепу. Точнее, не она сама бросила, а я надавил, сказал, что уже вырос и не хочу сидеть у нее на шее, а она должна отдохнуть и найти себе другую работу, потому что в тридцать лет, пусть даже неполные, негоже проституткой работать. Это я так считал. Она была сильно напугана и придавлена смертью своего сутера Клепы, контору его раскидало, и многие его телки поспешили найти себе других хозяев. А Алке я не позволил. Она сидела дома месяца два, ка-кая-то жалкая, молчаливая, целыми днями глядела в телевизор пустыми глазами, явно не воспринимая увиденного и услышанного. Ну и пила. Деньги я ей нормальные стал приносить, только она как-то странно у меня их принимала, требовала, чтобы я не передавал ей купюры из рук в руки, а сначала положил на пол. Только с пола и брала, да и то — дичилась. Я потому вскоре перестал ей деньгами давать, тем более что деньги ей и незачем были, она их складировала в секретере, а тратить не тратила: для трат нужно из дома хотя бы выходить. Я приносил ей продукты и спиртное, покупал одежду и косметику.