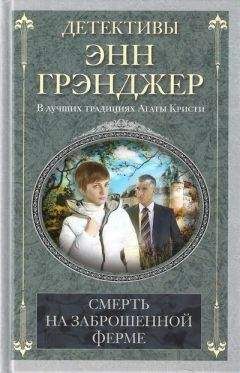Агата Кристи - Смерть у бассейна
— Ты такая теплая, Мэдж. Прямо горячая.
«Да, — подумала она, — это было отчаяние — а значит, холод, беспредельный холод и одиночество». Она никогда раньше не представляла себе отчаяния холодным. Оно казалось ей чувством пламенным, неистовым, яростным, готовым на любое безрассудство. Но все оказалось не так. Вот оно, отчаяние — предельный вообразимый мрак холода и одиночества. И грех отчаяния, о котором толкуют проповедники — холодный грех, грех обрыва вокруг себя всех живых и теплых человеческих нитей.
И снова Эдвард повторил: «Мэдж, ты горячая», а она подумала с радостным и гордым сознанием: «Но ведь именно этого ему и не хватает, а я как раз могу ему это дать!» Они все холодные, Энгкетлы. Даже в Генриетте был этот блуждающий огонек, этот энгкетлов скользающий холод нереальности. Пусть Эдвард любит Генриетту как неосязаемую и недостижимую мечту. Но в чем он действительно нуждается, так это теплота, устойчивость, постоянство. А еще — в каждодневном дружелюбии и любви — и смехе в Айнсвике. «Как же ему необходим, — продолжала рассуждать она, — кто-то, способный зажечь огонь в его сердце! И кому, как не мне, сделать это!»
Эдвард открыл глаза. Он увидел склоненное над ним лицо Мэдж, теплую окраску ее кожи, благородный рот, решительный взгляд и темные волосы, парой крыльев расходящиеся ото лба.
Генриетту он воспринимал всегда как проекцию из прошлого. Во взрослой он искал свою семнадцатилетнюю первую любовь и не хотел замечать ничего иного. Но теперь, глядя на Мэдж, он ощутил странное чувство: он как бы увидел ее во времени — сперва школьницу с теми же крыльями волос, только заканчивавшимися двумя косицами, потом сегодняшнюю Мэдж с обрамляющими лицо темными волнами, и, наконец — совершенно ясно — как будут выглядеть эти волны, когда волосы ее поседеют. «Мэдж, она настоящая, — подумал он. — Может быть, самая настоящая из всего, что я знал в этом мире». Он чувствовал ее теплую силу — живую, настоящую! «Мэдж — это скала, на которой я могу строить свою жизнь».
— Мэдж, милая, я так люблю тебя. Никогда больше не бросай меня.
Она наклонилась к нему, и он ощутил на губах ее горячие губы. Ее любовь укрывала и заслоняла его, и ростки счастья уже пробивались в той ледяной пустыне, где он так долго пребывал.
Вдруг, нетвердо рассмеявшись, Мэдж сказала:
— Эдвард, посмотри-ка, таракашка выполз посмотреть на нас. Ну разве он не прелестен? Я никогда не думала, что мне может так понравиться таракан!
Помолчав, она заговорила снова:
— Как удивительна жизнь! Вот мы сидим на полу в кухне, где еще пахнет газом, среди тараканов, и чувствуем себя на седьмом небе.
— Я мог бы остаться здесь навек, — прошептал он.
— Но лучше отправиться спать. Уже, наверное, четыре. И как, хотела бы я знать, мы объясним Люси разбитое стекло?
К счастью, подумала Мэдж, Люси необыкновенно легко объяснить что угодно.
Позаимствовав ее же собственный прием, Мэдж явилась в спальню Люси в шесть утра и изложила факты без всяких комментариев:
— Ночью Эдвард спустился вниз и сунул голову в газовую духовку. К счастью, я услышала, как он выходил, и пошла следом. Я выбила стекло, потому что не смогла быстро его открыть.
Люси — Мэдж не могла этого не признать — была великолепна. Она радостно улыбнулась без признаков удивления.
— Дорогая Мэдж, — сказала она. — Как вы всегда практичны! Я уверена, что вы всегда будете Эдварду величайшей опорой.
После ухода Мэдж Люси принялась размышлять. Потом она встала и пошла в спальню мужа, на сей раз оказавшуюся незапертой.
— Генри!
— Люси, милая! Еще петухи не пели!
— Кажется, нет. Но послушай, Генри, это действительно важно. Нам следует переоборудовать кухню в электрическую и избавиться от этих газовых плит.
— Почему, чем они нехороши?
— Хороши, но это такая штука, что наталкивает людей на всякие идеи, а не каждый так сообразителен, как наша славная Мэдж.
И, не снизойдя до дальнейших разъяснений, она выпорхнула из комнаты. Сэр Генри с ворчанием повернулся на другой бок и, уже погружаясь в сон, проснулся, вздрогнув.
— Мне это приснилось, — пробормотал он, — или действительно входила Люси и что-то говорила о кухне?
Идя по коридору, Люси подумала, что ранняя чашка чаю иногда очень приятна, и поставила чайник на маленькую газовую плиту в ванной. Упиваясь собственным трудолюбием, она легла в постель и блаженно растянулась, радуясь жизни и себе. Эдвард и Мэдж будут в Айнсвике, жюри присяжных — позади. Надо будет еще раз поговорить с Пуаро. Очаровательный человечек…
Вдруг новая идея вспыхнула в ее голове. Она села в кровати. «Интересно, — повторила она про себя, — а об этом она подумала?»
Она встала и направилась по коридору в комнату Генриетты, как всегда, начиная разговор задолго до того, как ее мог кто-либо услышать.
— …и мне вдруг пришло в голову, дорогая, что вы могли об этом забыть.
Генриетта сонно залепетала:
— Бога ради, Люси, еще птицы не пробудились.
— О, я знаю, дорогая, что сейчас несколько рановато, но ночь вообще была довольно беспокойной — Эдвард, духовка, Мэдж, кухонное окно, а еще надо обдумать, что я буду говорить господину Пуаро…
— Простите, Люси, но все, что вы сказали, звучит для меня полной тарабарщиной. Подождать это не может?
— Речь идет всего-навсего о кобуре, дорогая. Понимаете, я вдруг подумала, что вы могли упустить ее из виду.
— Кобура? — Генриетта села в постели. Ни капли сна в ней больше не было. — О какой вы кобуре?
— Генри держал тот револьвер в кобуре. А ее-то не нашли. Конечно, об этом может никто не подумать, но, с другой стороны, вдруг кто-нибудь…
Генриетта рывком встала.
— Человеку свойственна забывчивость, — сказала она. — Сущая правда!
Леди Энгкетл вернулась в свою комнату, легла и мигом крепко уснула.
Чайник на плите кипел, исходя паром.
Глава 29
Герда спустила ноги с кровати и села. Сейчас голова болела немного меньше, но она по-прежнему была рада, что не отправилась со всеми на пикник. Какая благодать и почти удовольствие — хоть ненадолго остаться дома одной.
Элси была, конечно, очень чутка, просто очень, в особенности в первое время. Начать с того, что Герду убеждали завтракать в постели и приносили ей все на подносе. Все норовили усадить ее в самое удобное кресло, подложить ей под ноги подушечку, совсем не позволяли напрягаться.
Они очень жалели ее из-за Джона, и она пребывала в охранительной оболочке этой легкой сострадательной дымки. Не хотелось ни думать, ни чувствовать, ни вспоминать.