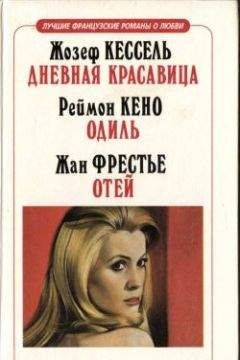Жорж Сименон - Исчезновение Одиль
– Это все?
– Меня ждали приятели. Мне не о чем было с ней говорить.
«Чао!»
«Чао!»
Она ушла чуть позже, одна, в ее походке чувствовалась какая-то усталость...
– Спасибо, старина.
– Почему ты задаешь мне эти вопросы?
– Потому что она уехала в Париж, никого не предупредив.
– У нее уже давно была в голове эта идея. Когда мы говорили о будущем, речь неизменно заходила о Париже. Она не понимала, как можно жить в Лозанне, и на тех, кто намеревался здесь остаться, смотрела с некоторой долей презрения.
– Спасибо. Извини, что побеспокоил.
– Через четверть часа я жду приятелей для репетиции.
– Твой отец не жалуется на шум, который вы устраиваете?
– Я в другом конце квартиры.
Он положил трубку и огляделся вокруг. Это была самая темная комната в доме, и Одиль была недалека от истины, говоря, что тут невесело.
Их дед Урбен Пуэнте был в течение тридцати пяти лет профессором права. Дом, который теперь занимала их семья, принадлежал ему. Отец с матерью обосновались здесь по настоятельным просьбам профессора, когда тот овдовел.
У него были красивые волосы, аккуратно подстриженная борода, поначалу светло-серая, затем белая и блестящая. То, что сегодня служило большой гостиной, когдато было его кабинетом и библиотекой. И здесь тоже часть стен покрывали деревянные панно, а то, что оставалось, было оклеено тиснеными обоями, имитировавшими кордовскую кожу.
В книжных шкафах, поднимавшихся от пола до потолка, хранились тысячи книг и переплетенных журналов, и никому никогда не пришло в голову прикоснуться к ним.
Урбен Пуэнте, бывший в этих местах уважаемой фигурой, умер десять лет назад, а отец Боба, вместо того чтобы занять его место в кабинете, продолжал работать в своей мансарде, считая ее для себя более подходящей.
Дверь отворилась. Вошла Матильда и раздвинула столик для бриджа, затем направилась к одному из шкафов взять карты и жетоны.
– Боб, что ты здесь делаешь?
– Я звонил.
– Ты что-нибудь узнал?
– Ничего интересного. Только то, что она уже давно подумывала об этом отъезде.
– Ты едешь в Париж?
– Пойду наверх, поговорю об этом с отцом.
– Где ты собираешься ее искать среди миллионов людей?
– У нее там есть по меньшей мере один друг или, вернее, это некто из моих друзей, за которым она ухаживала. У нее еще есть подруга Эмильенна, адрес которой мне известен. Наконец, ведь существует же полиция...
– И ты бы, не колеблясь, сообщил о ней в полицию?
– Да. Тебе я могу это сказать: я боюсь за нее.
– Я тоже. Бедная лапочка! Ты ведь знаешь, это не ее вина.
– Очень хорошо это понимаю и чувствовал бы себя спокойнее, если бы удалось ее отыскать.
Несколько мгновений спустя Боб постучал в дверь мансарды.
– Входи! – услышал он.
Должно быть, отец узнал его шаги на лестнице. Он тоже носил бороду, но рыжую, небрежно подстриженную. У него были кустистые брови, а из ушей торчали пучки волос.
Он сидел за огромным столом – обычным, а не письменным, – который всегда был завален книгами, журналами, тетрадями с записями.
Можно ли было говорить о том, что его профессиональная жизнь не состоялась? Когда он сдал экзамены на кандидатскую степень по истории, он, вероятно, подумывал, с одной стороны, о профессорстве, с другой стороны, об исследовательской деятельности.
Познал ли он разочарование или же решил избрать самый простой путь?
Он писал толстые труды, которые вырывали друг у друга парижские издатели, так как все его сочинения распродавались внушительными тиражами. Он писал в среднем по одной книге в год, тщательно отбирая тему, чтобы заинтересовать широкую публику.
Собственно говоря, это нельзя было назвать романизированной историей, скорее, это были незатейливые истории. Например, он воскрешал малоизвестный заговор или давал исчерпывающий список любовниц какого-нибудь короля, известного деятеля.
Он писал крупным разборчивым почерком, твердым и без следа нервозности или усталости. Он знал количество страниц, которые ему нужно было ежедневно исписывать, и старательно делал это, поощряя себя каждый час стаканом красного вина.
– Ты хочешь поговорить со мной о своей сестре?
– Не только о ней.
– Есть вещи, о которых ты предпочел бы не говорить в присутствии матери?
– Да. Это довольно серьезно. Одиль грозится уничтожить себя, и я думаю, что сейчас она на это способна.
Отец протянул руку.
– Дай мне прочесть ее письмо.
– Я его уничтожил.
– Почему?
– Потому что в нем были слишком личные вещи.
– Полагаю, там говорилось о твоей матери и обо мне?
Боб очень любил своего отца и мог бы стать ему другом, если бы в чересчур налаженной жизни Альбера Пуэнте осталось место и для него. Под грубоватой внешностью отца скрывался острый ум, но он демонстрировал его лишь в нужных случаях.
Отец вздохнул.
– Напрасно я согласился принять приглашение овдовевшего отца и переехал сюда жить с семьей. Это дом старика, и что молодые восстают, их можно понять.
– Не думаю, чтобы это было истинной причиной.
– Я провожу весь день в этой мансарде, где вечный беспорядок, выпивая каждый час по стакану вина. В половине десятого вечера я уже в постели, но с половины шестого утра я на ногах и совсем один в этом доме. – Единственные мои выходы в свет-это когда я отправляюсь в университетскую библиотеку или встречаюсь с одним из своих издателей в Париже. Твоя мать добрую половину времени проводит в кровати, и ее главное занятие-это игра в бридж. Кстати, ее приятельницы Приехали?
– Несколько минут назад их еще не было.
– Порой я спрашиваю себя: а все ли у нее в порядке с головой, как принято говорить в народе? Ты слышал ее за обедом. Никакого волнения. Ее единственной реакцией была боязнь, как бы эта новость не распространилась, как бы об этом не прознали ее подруги. Присаживайся, сын.
Он закурил сигару, спросил у Боба:
– Ты будешь?
– Нет, спасибо.
– С какой просьбой ты ко мне пришел?
Обычно, когда он поднимался в мансарду, это значило, что ему нужны деньги. Косвенным образом это был Снова тот же случай.
– Я хочу поехать в Париж.
– Надеешься ее разыскать?
– Попытка не пытка. Я знаю двух-трех человек, с которыми она уже могла вступить в контакт или же, возможно, еще вступит.
– Вероятно, это неплохая идея. Ты боишься, ведь так?
– Да.
– Она тебе об этом написала?
– О желании умереть? Да.
– Все же не говори ничего об этом матери. Я опасаюсь того же, что и ты.
Он достал из кармана брюк толстый бумажник, принялся пересчитывать стофранковые купюры.
– Вот пять. Если тебе потребуется больше, тут же дай мне телеграмму. Когда ты уезжаешь?