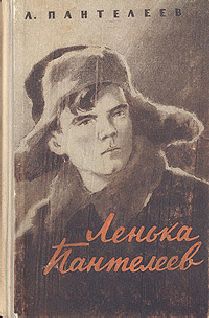Маргарет Дуди - Афинский яд
— Она была под покрывалом?
— Да. Хотя она наполовину откинула его, беседуя с Эргоклом, и пышные черные кудри рассыпались у нее по плечам. На самом деле, она сидела возле Эргокла и говорила с ним, пока он ел! Он устроился за маленьким столиком во дворе, там было попрохладнее. Когда мужчина ест, женщине положено сидеть на кухне и не мешать, но Эргокла с Ликеной это, похоже, заботило не больше, чем глупая овца, разгуливающая по двору. Я так понял, им было о чем поговорить. Но овца все время путалась под ногами и, в конце концов, подняла страшный шум. Тогда Ликена отвела Эргокла в дом, а немного погодя вышла к колодцу. Она набрала воды в старую, треснувшую гидрию, вылила ее в кувшин, стоявший на столике, и велела мне отнести кувшин гостю. Я, верный роли домашнего слуги, налил Эргоклу воды, а остаток — глупой овце, которая вертелась под ногами.
— А потом?
— Потом я понял, что Ликена догадалась, кто я. Должно быть, она узнала меня, когда я говорил с овцой. Она подошла. Мы стояли на улице, стариков не было видно. Ликена спровадила их в пристройку, где когда-то держали старого осла.
— Ага! — воскликнул я. — Значит, старики всегда могут сказать, что ничего не видели. Это в какой-то мере правда.
— Наверное, ты прав. Они совсем не были любопытны. Не думаю, что в этой деревне слышали о пропавшем мальчике. А эти глухие немощные старики точно не знают последних новостей.
— Тонкое наблюдение, — заметил Аристотель. — Впрочем, к такому же выводу мог прийти кто-то еще. Старые глухие нищие, живущие в глубинке. В каком-то смысле, идеальная пара. А лачуга — идеальное место для тайных встреч.
— Что еще сказала Ликена? — спросил я.
— Она велела мне хранить деньги в кожаном мешочке на груди, вместе с талисманом. И немедленно ехать в Коринф. «Беги!» — сказала она. Моя мать, мол, хочет, чтобы я как можно скорее покинул Афины. И момент самый подходящий.
— Так почему ты не на корабле? Почему не последовал ее совету?
— Я последовал. Сначала я ехал на осле, но им было тяжело править, и большую часть пути я проделал пешком. Я был уверен, что уеду. Но чем ближе я подходил к Коринфу, тем больше сомневался. Я никого там не знаю, куда идти — тоже не знаю. Если пойду в услужение на корабль, со мной будут обращаться, как с рабом и использовать по-всякому. Если бы мне уже исполнилось восемнадцать! Или хотя бы семнадцать. А потом я подумал, как было бы здорово вновь увидеть маму и маленькую Хариту. И еще подумал, может, суд еще закончится хорошо? И вообще, я не должен бросать маму в беде. И я повернул обратно.
— И ты повернул обратно, — повторил Аристотель.
— Я пришел туда, где мне наняли осла, в двух шагах от дома Манто, и послал ей записку, а она передала, что меня разыскиваешь ты, Основатель Ликея. Возможно, это означало, что надо бежать. Но я решил прийти и поговорить с тобой.
— Непосредственный, достойный восхищения поступок, — проговорил Аристотель. — Хотя, возможно, несколько опрометчивый.
Некоторое время он молчал, задумчиво глядя на мальчика.
— Возникли непредвиденные трудности, — сказал он наконец, тщательно подбирая слова. — С тех пор, как ты в последний раз был в городе, по крайней мере, под именем Клеофона, положение изменилось. Прежде всего, Эргокл мертв.
— Мертв? Но это же здорово! Прекрасные новости!
— Может, да, а может, и нет. Я вынужден сказать, Клеофон, что, хоть я и одобряю твое решение вернуться и помочь матери… мачехе, этому желанию не суждено сбыться немедленно. Сейчас ты можешь навредить ей сильнее, чем прежде.
Аристотель поднялся.
— Ты должен незамедлительно уехать. И уедешь, — объявил он. — Денег на путешествие я тебе дам. Единственное — ты должен написать письмо. Возьмешь таблички и напишешь краткое послание, что, мол, с тобой все хорошо, что ты скоро напишешь и собираешься уехать из Эллады. Как только я узнаю, что ты в безопасности, я пошлю это письмо Гермии.
— О, нет! Я не могу принять от тебя деньги…
— Разумеется, можешь. Не докучай мне благодарностями, потом все вернешь. Я поручу тебя заботам Фокона. Вы оба пойдете в Пирей, как будто вы два раба. Понял?
— Да, но…
— Никаких «но»! Это нужно сделать, и как можно скорее. Фокон посадит тебя на корабль до любого из портов Коринфа и попросит какого-нибудь пассажира присмотреть за тобой до конца путешествия. Если, когда ты приедешь в город, тебе понадобится помощь, пойди к моему другу, я дам письмо. Но кроме него не обращайся ни к кому. Если же ты решишься уплыть из Коринфа, это будет лучше всего. Прошу тебя об одном: если получится, оставь весточку моему другу. И путешествуй под чужим именем. Только не называйся Симмием.
Клеофон изменился в лице:
— Но я ведь не смогу помочь маме…
— Написав это письмо и уехав подальше из Афин, ты окажешь ей неоценимую услугу. А если останешься, навредишь и ей, и себе. Скажут, что вы вступили в сговор и убили Эргокла. Ты подвергаешься страшной опасности, и беды Гермии лишь удвоятся. Чем больше обвинений предъявят ей, тем больше вероятность, что она умрет раньше срока. Лучшее, что ты можешь сделать для Гермии и для себя, — держаться от нее подальше.
— Но я мог бы остаться с Эфиппом, как мальчик-конюх…
— Нет. Это уже не безопасно. Тебя разыскивает кое-кто еще. Молодой мужчина, сильный и умелый, который столь же проницателен, сколь неутомим. Не пройдет и трех дней, как он тебя выследит. Повторяю, это будет страшное испытание как для Гермии, так и для тебя. Говорю же, ты должен ехать!
Речь Аристотеля, кажется, впечатлила Клеофона, вид у него был испуганный.
— Прости, — сказал Аристотель, в его глазах, устремленных на мальчика, была жалость и доброта. — Мне правда жаль препятствовать лучшим твоим побуждениям, которые я искренне ценю. Ты вырастешь и станешь хорошим человеком. Но ради собственного будущего, ты должен уехать. И последнее. Я скажу Фокону, что, если он почует слежку, или если корабля в Коринф придется ждать слишком долго, или если вас кто-нибудь узнает, пусть сажает тебя на первый же корабль из Пирея. Ну, теперь пойду к Фокону.
И Аристотель вышел, взглядом велев мне помалкивать.
Клеофон, по-прежнему напуганный, посмотрел на меня.
— Значит, я не могу увидеть маму? — спросил он.
— Сейчас этого не стоит делать, — ответил я. — Для нее так будет лучше. Чем лучше тебе, тем лучше ей.
Он уступил и, больше не обращая на меня внимания, занялся письмом, а потом невидящим взглядом уставился в стену, словно пытался заглянуть в свое будущее.
— Фокон все знает, — сказал Аристотель, входя в комнату. — Вот тебе плащ. Нет, не благодари, я взял его у раба. Надень и не снимай, пока не окажешься хотя бы в Коринфе. Давай свое письмо, а вот записка моему другу. — Он вручил мальчику скромные таблички, перевязанные бечевкой. — Это кузнец, родом из Азии, я представил тебя под другим именем. Тебя, возможно, удивит его выговор, но он добр, бесстрашен и, к тому же, кое-чем мне обязан. А теперь ступай.
Проводив мальчика и Фокона, Аристотель сел, потом снова вскочил и беспокойно зашагал по комнате.
— Вот так история! Я не успокоюсь, пока Фокон не вернется. До Пирея путь неблизкий. Дать им лошадь или мула я не осмелился, пусть смешаются с толпой путешественников и не привлекают внимания.
— Как любезно с твоей стороны, — заметил я, — взять на себя все эти заботы и расходы.
— Да уж, — угрюмо согласился он. — И я еще не знаю, что из этого выйдет. Я отлично сознаю, что в какой-то мере навлек опасность и на себя. Только представь, я — похититель ребенка! Но не мог же я просто стоять и смотреть, как несчастный мальчик шагает навстречу собственной гибели.
— Ты считаешь, его бы судили за убийство Эргокла? — спросил я.
— О да. Несомненно. Клеофон — соучастник, пусть даже невольный. Говоря без обиняков, он — орудие убийства Эргокла. Руками Клеофона бедняге дали наркотическое или снотворное питье, которое ввергло его в состояние оцепенения. Ты заметил, что барашек был жив-здоров, когда мальчик впервые попал в этот дом? А отведав Эргоклова питья, погрузился в спячку. Я, кстати, хотел бы узнать, не проснулось ли несчастное животное, разрушив надежды хозяев на отравленную баранью похлебку! Как бы это выяснить, не навестив старых крестьян? Само по себе питье, думаю, несмертельно. Но, одурманив Эргокла, убийцы разделались с ним без труда. Просто взяли и тихонько свернули ему шею.
— Какое отношение несчастный мальчик мог иметь к сворачиванию шеи?
— Никакого. Но он сам вынес себе приговор. Он ненавидит Эргокла, «этого ужасного человека», или ненавидел прежде. И уж точно винит его во всех несчастьях семьи Ортобула. Стоит Клеофону признаться, что он отнес Эргоклу воды, люди охотно заключат, что это он подсыпал в кувшин яд, а потом собственными руками свернул Эргоклу шею. У него были личные мотивы.