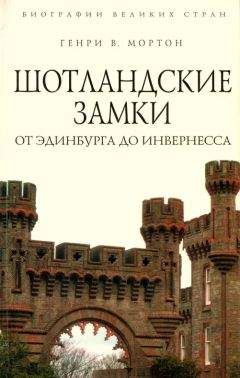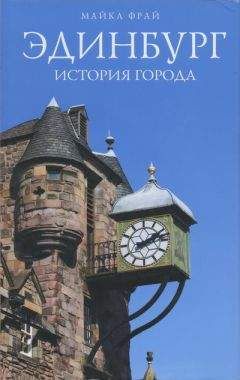Сумерки Эдинбурга - Лоуренс Кэрол
— Ты с тем же успехом можешь попросить луну не светить, тетушка.
Она покачала головой:
— Ты сын своей матери, благослови Господь душу Эмили. Она была упрямой, как и положено шотландке.
— А ты? — Иэн повернулся от окна.
Она вскинула бровь и выпрямилась в кресле:
— А я — упорная. Чувствуешь разницу?
— Я знаю, что ты не веришь в Бога, да только благослови тебя Господь, тетушка. — Иэн откинул голову и громко расхохотался.
— А сам-то веришь? — Лиллиан улыбнулась и принялась продевать в иголку новую нитку.
— Мне этот вопрос кажется не имеющим значения.
— Вопрос о существовании добра и зла?
— Я не понимаю, при чем тут Бог. Если ты добродетелен лишь для того, чтобы избежать проклятия и оказаться в раю, разве это не означает, что ты думаешь лишь о самом себе?
— Твой брат так же думает?
Иэн быстро взглянул на нее, но Лиллиан была полностью поглощена работой — возможно, чтобы избежать его взгляда.
— Не знаю.
— Он был таким блестящим юношей, — вздохнула Лиллиан, подметывая край скатерти.
— Он чертов гений, — пробормотал Иэн. — Но это его не оправдывает.
— Отчего ты так жесток к брату? Он очень тяжело переживал гибель родителей.
— А я нет?
— У Дональда не такой сильный характер. — Лиллиан отодвинула шитье и накрыла руку племянника своей. — Он ведь всегда был легковозбудимым и чересчур чувствительным мальчиком, ему досталась мрачность твоего отца. А ты больше похож на мать. Это ж она была краеугольным камнем всей семьи.
— Дональд гораздо умней меня.
Лиллиан грустно улыбнулась:
— Порой чем ты умней, тем сложней быть счастливым.
— Я не про счастье говорю, а про то, что надо делать дело.
— Так, может, Дональд и делает то, что должен делать прямо сейчас? — Лиллиан положила руку на плечо Иэну.
Иэн взглянул в ее участливые голубые глаза и вздохнул:
— Ах, тетя, если бы все люди были как ты!
— Что ж, — сказала она, — я рада, что ты наконец-то смог оценить меня по достоинству. И скажи своему начальнику, что я с радостью принимаю предложение. Еще чаю?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ
Замерший на пустынной темной улице человек поднял взгляд к башням Эдинбургского замка, свет которых тускло пробивался сквозь пелену тумана. Его левая рука сжимала в кармане шелковый шарф. Вечер воскресенья был не лучшим временем для охоты, к тому же после дождя, заливавшего город всю предыдущую неделю, кругом было сыро и воняло плесенью. Вконец измученные скверной погодой горожане думать забыли о пабах. Все сидели по домам перед каминами, тепло укутавшись и прихлебывая сдобренный виски чай или горячий ром. Слабаки никчемные, подумал он, глядя, как выскочившая из-за мусорного ящика жирная крыса протискивается между прутьями канализационной решетки.
Он зашел в укромный проулок, и в этот момент снова начал накрапывать колючий мелкий дождь. Остановившись у бочки, до краев заполненной дождевой водой, он стряхнул со своего пальто несколько капель и привалился к холодной каменной стене. Он вожделенно перебирал пальцами шарф в своем кармане. Такой ночью вести дела было опасно — слишком уж тихо в городе, его легко может заметить кто-нибудь. Когда улицы кишат праздными гуляками, вероятность выделиться из толпы и остаться в чьей-то памяти гораздо меньше. Осторожность, являющаяся, как известно, лучшей частью доблести, была и неотъемлемой частью свода его собственных правил.
Когда случайный прохожий замечал в пустынном винде или клоузе распростертую на земле фигуру, то чаще всего полагал, что это очередной упившийся бродяга — обыденное зрелище, нечего и глядеть. А он любил постоять рядом с трупом, наслаждаясь своим триумфом. А еще, когда кто-то все же решался подойти, он был достаточно близко, чтобы видеть изумление и ужас на лице обнаружившего дело его рук. К моменту же прибытия полиции он был уже далеко — не стоило искушать удачу.
Он вздохнул и, прислонив голову к стене, вспомнил последнего. По привлекательности, конечно, со Стивеном Вайчерли и рядом не стоял, зато здоровяк, крепкий и очень сильный — чисто бычок молодой. Хотя, конечно, силы ему не хватило, как им всем не хватало ее в самом конце. А злость из него так и перла — как же страстно парень жаждал драки! Закрыв глаза, он живо вспомнил, как это мощное тело билось под его руками в отчаянных усилиях вырваться. При мысли о нем, крепком и упругом, жизнь и смерть которого были на кончиках его собственных пальцев, в паху стало тесно. Он мог оборвать эту жизнь одним движением удавки, с той же легкостью, с какой задувают свечу. Чуть ли не с раскаянием вспомнилось посетившее его тогда мимолетное желание не убивать жертву — не из жалости, а дабы продлить момент.
Его дыхание участилось, в брюках стало еще теснее, пальцы еще крепче стиснули в кармане шарф. Другой рукой он освободил свою вздыбленную плоть и стал оглаживать ее, заново переживая последнюю победу. Он вспоминал жаркое и резкое дыхание парня у своего уха — вспоминал, как вжался лицом в щеку жертвы, туже затягивая шарф. Поняв тогда, что парень вот-вот обмякнет, он ослабил хватку, позволив ему сделать еще пару вдохов, а затем окончательно затянул петлю…
Сладкая дрожь прошла по всем его членам, и он затрясся, смешивая свое семя с бегущими по мостовой ручейками усилившегося дождя, а потом замер, глядя, как они исчезают в жерле канализационных решеток, чтобы глубоко под землей смешаться с тайными грехами всех жителей этого города. Он подставил руку под поток воды, падающей в бочку, и кончики губ приподнялись в улыбке.
А потом снова зажмурился, но на этот раз в голове зазвенел голос отца:
— Дрянь никчемная! Да как вообще можно быть таким слабаком?
От этого воспоминания лоб ожгло стыдом, и он протестующе затряс головой, но воспоминание лишь еще цепче, словно зловредный паразит, впилось в мозг.
— Брат мужик мужиком, а ты кто такой есть? Старая жалкая баба! А ну встал и снова вперед пошел!
Окружающий его проулок исчез, вокруг снова был огороженный задний двор фермерской лачуги его детства. Он чувствовал под ногами мягкий скользкий дерн, на котором так легко поскользнуться, видел белые струйки отцова дыхания в сыром воздухе, слышал хриплое дыхание брата и чувствовал кислый запах собственного ужаса. Стерев с холодного лба пот, он пошел к брату, беспорядочно молотя воздух кулаками. Краем глаза заметил в окне кухни искаженное ужасом белое лицо матери.
Ему снова было восемь, брату — на два года больше.
От этого воспоминания он замычал, словно раненое животное, и стиснул голову, чувствуя приближение жаждущей поглотить его без остатка тьмы. О, в сердце людском столько зла, что и не знаешь даже, с чего начать…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Когда ранним утром понедельника Иэн пришел в участок, его встретил констебль Бауэрс.
— Босс вызывал вас, сэр, — сказал он, махнув кулаком с оттопыренным большим пальцем в сторону кабинета Крауфорда.
— А зачем?
— Да из-за писем, наверное, — ответил Бауэрс, застегивая мундир.
— Писем?
— Вы что, не слышали?
Иэн оглядел помещение — все присутствующие замерли, выжидающе глядя на него.
— И похоже, единственный, — сказал он, — спасибо, констебль.
— Удачи, сэр, — ответил тот и нырнул в двойные двери на главную лестницу.
В ответ на стук в дверь Крауфорда раздалось ворчание, которое одновременно было похоже на «входите», «подите» или даже «пилите». Очевидно, главный инспектор подхватил простуду, и это было не к добру.
Крауфорд восседал за столом, понуро глядя на бесформенную груду лежащих перед ним писем.
— Бауэрс сказал, вы меня вызывали, сэр?
— Закройте дверь, — сказал Крауфорд и высморкался в недра необъятного белого платка.
— А вы, похоже, простудились, сэр, — заметил Иэн, закрывая дверь.
— Слухи о вашей феноменальной наблюдательности определенно не преувеличены, — пробормотал Крауфорд, запихивая платок в нагрудный карман.