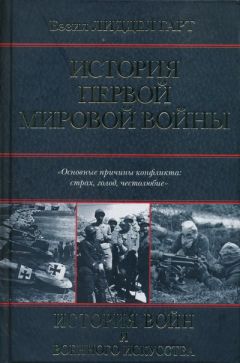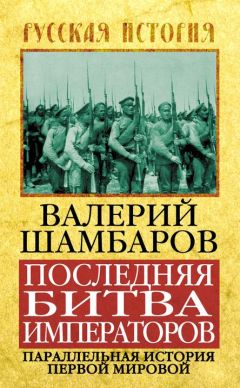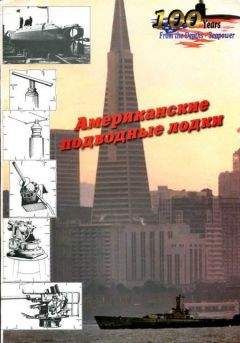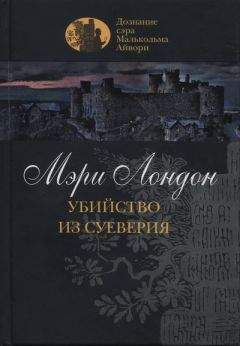Владлен Карп - Ритуальное убийство на Ланжероновской, 26
- Господин Флёр, просим к нам в кампанию.
- К вам в кампанию идут абротники, алкаши и шмары*. А я так - на время, пересидеть одну неприятность, - одним духом выпалил «денди», оглядывая камеру, сказал вошедший, прошёл через всю камеру и сел на нары возле окна. Вынул из заднего кармана папиросу, чиркнул спичкой по стенке, закурил и осмотрел эту вонючую конуру с брезгливым взглядом.
- Ша! Сделать ша! Чтоб муха ни-ни!– не очень громко, но понятным тоном, скомандовал Флёр.
Камера мгновенно смолкла. Слышно было только бульканье канализации в параше и противное жужжание огромной жирной мухи, за которой безуспешно гонялись все сидельцы до появления Флёра. Муха билась о небольшое мутное грязное оконное стекло в тюремной решетке.
Флёр схватил стоящую рядом табуретку и ловко запустил её в окно. Табуретка шлёпнулась сидением в решётку, раздался грохот разлетающегося стекла и высокий тон звенящего металла. Стало сразу светлее и в духоту камеры ворвался свежий воздух улицы.
- Быстро заткнуть хайло параше! – скомандовал Флёр. В одно мгновение парашу прикрыли рядном. Флёр повернулся к двери и громко выкрикнул:
- Папаша, двигайте сюда. Папаша?!
*абротник – конокрад, шмара – проститутка – (воровской жаргон)
Это он обращался к сидящему возле параши на полу Маковскому. Мэир сидел, поджав ноги, не обращая внимания на окрики в его адрес, то ли спал, то ли в забытьи, не слушая и не слыша, что творится вокруг.
- Эй, папаша, я кому базлаю[16]. Оглох или спишь?
Маковский не шелохнулся.
- Ану, шмакодявки, быстро его сюда, осторожно, как четверть горилки, - указал Флёр на двоих стоящих рядом, выкинув вперёд правую руку с оттопыренным мизинцем. На пальце сверкнул, как лезвие отточенного ножа, острый ноготь. Вся Одесса знала ноготь Флёра. О нём по городу шли легенды, как Флёр ловко обходился этим оружием. Его никто не мог отнять, украсть, использовать против хозяина. Этим ногтем он запросто вскрывал любую дамскую сумочку, лёгким незаметным взмахом руки, ловко чиркнув ногтем по шее обидчика, как опытный хирург, мог распороть сонную артерию. Ничто не могло спасти противника.
Двое сокамерников в один прыжок оказались возле Маковского, подхватили его под ручки и в таком виде, бережно, как хрустальную вазу поднесли и опустили к ногам Флёра. Маковский поднял голову и с удивлением посмотрел на элегантно одетого человека совсем не подходящего к обстановке камеры, но разогнуть ноги и подняться не было сил.
- А что это ты, господин хороший, босиком, где твои шкрабы, – обратился к Маковскому Флёр, - кто снял?
В ответ – молчание.
- Он, что, немой? – спросил Флёр.
- Не. Он просто того. Ему не нравится обстановочка наша. Кампания ему не подходит, - ответили.
- Где его шкрабы, я спрашиваю? – грозно бросил Флёр. Один из шпаны кивнул головой в сторону, сидящего на противоположных нарах, сидельца.
- Эй ты, жертва аборта. Скидывай шкрабы. К тебе кто говорит, лучше бы мама тебя не рожала, - не поворачивая головы, бросил Флёр. – Нет, ты не просто сними их, вылижи языком всю грязь с тех шкраб, которую твои грязные лапы засунули в чужое добро.
Флёр выбросил вперёд руку и мизинец сверкнул отточенным ногтем. Всем всё стало ясно без слов.
Вычищенные языком ботинки быстро натянули на вытертые от налипшей грязи ноги Маковского. Сами, уже без указаний Флёра, одели на Маковского снятый вместе с ботинками пиджак.
- Так. Одно дело сделали. Справедливость – мать порядка. Окинул взглядом камеру Флёр, повернулся к Маковскому. – Как тебя, бедного, заделала шпана. Шмаровозы.
Флёр слегка подтолкнул Маковского. Тот открыл глаза, не понимая, что происходит. Смотрел на спасителя, разговаривающего почти человеческим языком.
Прошло пару дней и Маковский понемногу отходил от угнетённого состояния. Лучшее место для спанья, приличная еда в силу возможного в условиях предвариловки, возвращали его к жизни. Времени в камере было предостаточно, если не считать некоторые перерывы на допросы и краткие прогулки. Флёр рассказывал Маковскому о своей жизни, упуская ненужные в таком деле подробности жизни обыкновенного урки [17]
Где шмонали[18] урки,
Все боялись Мурки,
Воровскую жизнь она вела.
(модная одесская блатная песня)
ВОТ, ЧТО ТАКОЕ БЛАТНОЙ ЯЗЫК
Выхожу один я на дорогу,
Предо мной тернистый путь лежит.
Ночь тиха и небо внемлет Богу
И звезда с звездою говорит.
Без конвоя выломлюсь на трассе[19]
Без конвоя выломлюсь на трассе,
В непонятке[20] маякнет[21] бульвар;
Ночь нишкнет[22], как жулик на атасе[23],
И звезда с звездою трёт базар[24]
В небесах - сплошной отпад и глюки[25]!
В сисю[26] закемарила земля...
Что ж мне в таску[27] эти джуки-пуки[28]?
Жду ль чего, как сучка кобеля?
Хули[29] мне ловить - звиздюлю[30], что ли?
Хули мне жалеть, набычив рог?
Я хотел бы втихаря на воле
Отрубиться, блин, без задних ног!
Но не в деревянном макинтоше[31]...
Просто массой придавить кровать,
Чтоб не дул сквозняк, не грызли воши,
И не в хипиш[32] жабры раздувать;
Чтобы всю дорогу в бессознанке
Мне про Мурку пели бы менты,
Чтобы дуб шумел, а не поганки...
Просто дайте дуба - и кранты[33].
Маковский во всех подробностях рассказал о своей беде, за что его арестовали и в чём его обвиняли. Флёр возмущался, кричал, что всех выведет на чистую воду, разберётся с виновными, как только выйдет на свободу. Он, правда, не очень был уверен, что это произойдет скоро, но все же, не думал, что задержится тут очень долго. Флёр умел держать слово.
***- Ты почему до сих пор не расколол этого – того? Ну, жида старого? Как это: нет улик и свидетелей? Мне твои объяснения не нужны, мне нужен результат. Нет свидетелей? Вон сколько народу шляется по улицам. Каждый может быть свидетелем. Ты что, первый день в полиции? Собрать улики и всё! Понял? Не то я на тебя соберу. Далеко не надо ходить, они у меня в шкафу, под замком давно просятся в дело.
Начальник свирепел всё больше и больше с каждой минутой, с каждой фразой.
- Позор! Безмозглые слюнтяи. Писаки! Я их с г…м смешаю. Они что, хотят выставить меня со смехом на всю Европу, - он не говорил, а причитал, зажигательно, громко и витиевато, но неграмотно, - хотите ударить меня лицом об грязь. Кто писал, я к вам говорю, кто писал эту галематью? Это же слово в слово переписано с «Русского знамени» за прошлый год. Я их загоню к е…й матери в Сибирь, - продолжал неистовствовать полицейский начальник. – Вы все забыли, чем закончились дела Бейлиса в Киеве, в Дубоссарах, в Вильно. Кого сняли, кого повысили, но все были в г…е.
- Но, что делать с газетами? Они орут во все глотки: «евреи», «живодёры», «кровопийцы», «долой»… и чего ещё многого, - робко вставил полицмейстер Рябоконь.
- Какие газеты? Назови.
- «Одесское обозрение», «Новороссийский телеграф», «Буревестник» и ещё…
- Заткнуть им глотки, немедленно, пока я сам не вырвал их с языком, - в сердцах ответил начальник, - они же «прогрессивные», мы их привлекали за печать – «Долой царя», прости Господи.
- Так за деньги могут всё. Из газет приходили с угрозами, - не унимался Рябоконь.
Ему разговоры про гонения на евреев были по душе и он думал, что удастся успокоить начальство.
- Пусть эти угрожающие ублюдки придут ко мне и принесут 10 000 на ремонт православного храма, а то он скоро обвалится на головы молящихся, прости Господи, - бросил в ответ начальник. - А эти жиды от Бродского и Высоцкого, да и ещё кое-кто, уже принесли такие деньги не на ихнюю синагогу, а на храм Божий. Кричать легче, дело делать надо. Где тело мальчика, где труп, где доказательства? Идите и ищите, а то я вас отправлю подальше, бездельники.