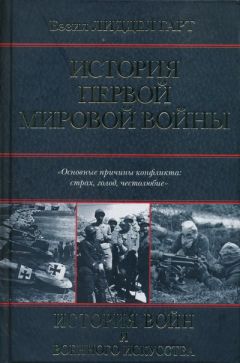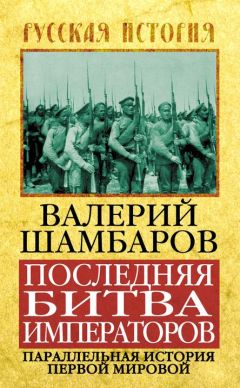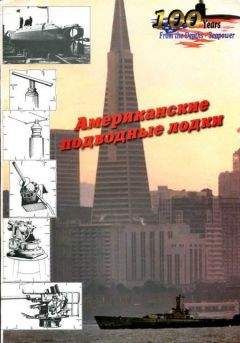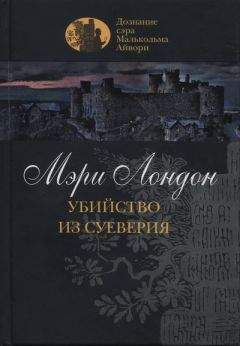Владлен Карп - Ритуальное убийство на Ланжероновской, 26
Василий повернулся к выходу и медленно вышел их храма, а сзади ещё доносился голос, проповедующий всеобщую любовь во искупление грехов.
***«Вспомни! – сказал себе Маковский. – Вспомни, как было на самом деле во всех мелочах. Все подробности очень важны. Не может быть, чтобы он не вспомнил. Но мысль ускользала от него. Он никак не мог сосредоточиться. Из головы не выходило, что он не виноват, что он не знает, как могло случиться, что его обвиняют в похищении ребёнка, тем более в его умерщвлении. Какой абсурд – убить ребёнка, чтобы забрать у него кровь на мацу? Чей воспалённый ум мог придумать такое. Он и раньше слышал о «ритуальных убийствах», в которых обвиняли евреев. Но этот навет разоблачён многие столетия тому назад. И как можно к ним возвращаться в наш просвещенный век?
И вообще. Человек появляется на свет из утробы матери, по воле Божьей или по сути жизни, один и один идёт по жизни. Отец. А что отец? Он только зачинщик, исполнитель воли Всевышнего или течения жизни, а мать – проводник этой воли. Ребёнок растет, умнеет, переживает, любит, ненавидит, и всё – один. И умирает человек в одиночестве. Никто не может за него пережить его страдания, потуги, стремления, мысли.
Идея воспоминания была известна ему издавна. Вместо того, чтобы искать в уме пути решения сложной проблемы, особенно, если такая проблема могла встречаться на его пути и раньше, должен заставить свой мозг просто вспомнить его. Допущение того, что это решение уже было когда-то принято, заставляет мозг настроиться на то, что оно действительно должно существовать и подрывающее чувство безнадёжности исчезает. Он инстинктивно опустил плечи, закрыл глаза, сделал спокойный вдох, выдох и замер. Так его учил старый факир. С этим факиром Маковский познакомился случайно. Директором Одесского цирка работал много лет его близкий знакомый, мсье Циммерман, Рудольф Нисимович Циммерман. Гуляя как-то по Приморскому бульвару, Маковский встретил Циммермана и тот пригласил своего друга в цирк на интересную программу знаменитого во всём мире факира Али Аграна. Этот факир, на удивление одесской публики, глотал живых лягушек и потом их выплёвывал живыми в тазик с водой, изрыгал огонь изо рта и выделывал много других диковинных трюков. Публика была в восторге. Так тот Али Агран в разговоре о сути жизни, о превратностях судьбы, помог Маковскому научиться управлять своим телом и мыслью.
Он вспомнил советы мудрого Али. Нужно сесть, расслабиться, вспомнить что-нибудь хорошее в жизни, спокойно вдохнуть, выдохнуть, задержать дыхание и потом дышать спокойно и не глубоко только носом. Сердце сразу стало биться медленнее, мышцы расслабились, паника прошла, круговорот мыслей стих. Ум заработал яснее. Он вспомнил…
Но Б-г же есть. Никакая наука, ни жизнь не могли и никогда не докажут, что наука победила религию, что наука может дать ответ на все вопросы. Религия так же не может дать ответ на животрепещущие вопросы. Как же современная наука не может убедить людей, что «ритуальные убийства» евреями младенцев не может быть изначально, не может быть из-за уклада еврейской истории, еврейской жизни…
***Первое время в КПЗ он метался по камере как подбитый зверь, требовал адвоката, суда, справедливости. Потом затих. Силы покидали его. Ему уже ничего не нужно было, только оставили бы его в покое. Ему уже было всё равно, засудят, отправят на каторгу, повесят, только бы всё уже кончилось. Убивала неопределённость.
В камере предварительного заключения было тесно, душно. Вонь от параши вызывала тошноту у него. В первые же дни у него сняли ботинки и не просто сняли, а содрали, как с болванки, не обращая никакого внимания на то, что ноги-то живые. Он пытался сопротивляться. Ему двинули пару раз в лицо грязными кулачищами сокамерники и он понял, что тут он справедливости не дождётся. Это точно. Вместо почти новых штиблет, ему бросили как подачку пару заскорузлых рваных туфель. Он даже не пытался их надеть. Почти одновременно с него сдёрнули пиджак, хотели и брюки стянуть, но передумали, они были изодраны в нескольких местах. Попробовал присесть на нары ближе к тусклому зарешётчатому под потолком окну, но его двинули так, что он полетел к двери, ударился головой об косяк, сполз на липкий грязный цементный пол возле параши. Да так и сидел помятый, обессиленный, босой, с вылезшей из брюк рубашкой, не имея сил двинуться.
В сотрясенном мозгу вяло шевелились мысли. Как же так. Маковскому и раньше приходилось сталкиваться с простым людом, с грузчиками. А там были ещё те специалисты выпить, подраться, побуянить. Но такого не было, чтобы его ни за что, ни про что ограбили, избили. Портовые грузчики относились к нему с уважением, называли по имени отчеству или - господин Маковский. Он – их работодатель. В отличие от других купцов, он платил на несколько копеек больше за каждый мешок. Грузчики охотно шли к нему работать. Артели на перебой старались попасть к Маковскому на погрузку. Одесский порт механизировался. Появились нории (конвейеры, загружающие трюмы кораблей по движущейся ленте), но Маковский не спешил их применять. Ему было жалко тех пятидесяти грузчиков, которых пришлось бы уволить и заменить их 5-6 рабочими, работающими с локомотивом, приводящим норию в действие.
Еда, которую приносили два раза в день подследственным, была такого же цвета и запаха, как параша. От неё мутило, хотелось рвать.
За эти три месяца он похудел, брюки висели на нём, как на огородном чучеле. Сидел скорчившись, подтянув коленки к самому подбородку возле этой параши, ни на что не реагируя. Его, когда-то чистые, ноги с аккуратно подстриженными ногтями, раздражали соседей по камере, но прошло несколько дней и ноги покрылись грязью. На ноги, да и на него самого постоянно летели брызги оправляющихся на параше. Он не реагировал. Только однажды, не выдержав издевательств, он в сердцах громко выкрикнул: «Доннер ветер».
- Ты из немчуры? – удивлённо спросил один из постоянных клиентов следственных изоляторов.
- Нет, я знаю немецкий, - вяло ответил Мэир.
- И пишешь и читаешь по ихнему?
- Да.
-А по-англицки умеешь?
- Да.
- А по-жидовски?
-Да. По-еврейски.
- А по этому, ну – макаронников?
- Да.
- Ну, а как эти – лягушатники?
- По-французски. Да, - ответил Маковский.
- Зачем тебе это всё, - удивлённо спросили сразу несколько из сидевших с ним в камере.
- Не знаю.
- Не знаю, а учишь. Кому это надо? - недоумевали соседи по камере.
Шли дни, ночи, недели… Маковский потерял счёт времени. Сколько прошло – он не знал и не хотел знать. Смысл жизни потерял для него всякое значение. Что жить, что умереть – всё равно.
Камера жила своей жизнью. Одни уходили, другие приходили. То становилось несколько свободнее в камере, то набивалось столько людей, если можно было назвать этот сброд людьми, что в полутёмной камере и сидеть-то, не то чтобы лечь, не всем было место.
К Маковскому временами возвращалось сознание и он молился, слегка покачиваясь:
«Властелин мира! Вот я прощаю всех, кто гневил и досаждал мне или согрешил предо мной, нанеся ущерб телу моему, либо достоянию моему, либо чести моей, либо всему, что есть у меня, - по принуждению или по своей воле, неумышленно или злонамеренно, словом или делом, будь-то в этом или в другом воплощении души моей – прощаю всех людей, и да не будет наказан из-за меня никто. Да будет воля Твоя, Бог мой и Бог отцов моих, чтобы не грешил я в глазах Твоих. Да будут угодны слова уст моих и помышления сердца моего перед Тобою, Бог, Твердыня моя и Избавитель мой!» После молитвы ему становилось как-то легче на душе.
Но, вот однажды открылась дверь с привычным лязгом и грохотом задвижек и замков и в дверном проёме появился человек с высоко поднятой головой. На нём была шляпа-канотье из дорогой итальянской соломки с чёрной широкой муаровой лентой. Тонкие артистические усики на гладко выбритом симпатичном лице. Чёрные, набриолиненные, волосы зачёсаны на пробор. Просто - денди. Камерники как по команде вскочили.
– Флёр!? - единым вздохом выпалила камера. Заискивающие улыбки не сходили с их лиц.
Его звали Флёр. В детстве он услышал это слово. Оно произвело на него такое сильное впечатление, что он к месту и не к месту повторял: «Для флёру!».
Так и осталась за ним эта кличка. Многие думали, что это его фамилия. Одно время ходила легенда, что он родом из Франции, из когда-то богатой, но разорившейся семьи. Что, мол, они, его родители, приехали в Одессу давным-давно.
Отец, якобы, мечтал служить в русской армии. Отец погиб в бою, а мать уехала обратно во Францию, бросив малое дитя на произвол судьбы. Флёр знал про эти легенды и не стремился их развенчать. Сам же он не знал своих родителей. В раннем детстве отец покинул семью, а мать вскоре умерла. Он воспитывался у знакомых его матери, в еврейской религиозной семье. Рано бросил дом, приютивший его, и пошёл «в народ». Насколько он помнил из детства, отец был татарин, а мать донская казачка.