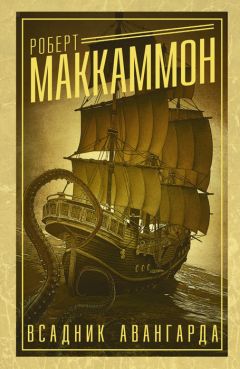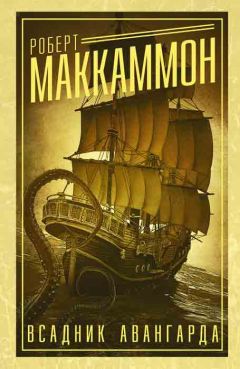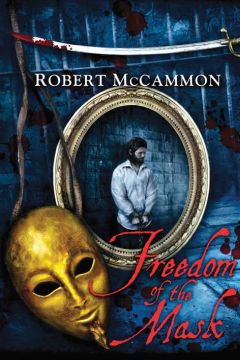Роберт Маккаммон - Голос ночной птицы
— А я и не собирался, — ответил тот, прижимая бутылку рома к груди.
— Миссис Воган? Можно ли мне… гм… взять с собой немного этого восхитительного хлеба?
— Сколько хотите, — буркнула она, глядя в пространство. — Хоть весь.
Мэтью так и сделал, что составило примерно половину каравая.
— От души признателен.
Лукреция посмотрела на него. Зрение ее прояснилось, когда она поняла, что он действительно уходит. Слабая улыбка тронула ее губы.
— Ох… мистер Корбетт… да что это я? Я же думала… надеялась… что мы после ужина все поиграем в «мушку»…
— Боюсь, я совершенно не способен к карточным играм.
— Но… но столько есть предметов, о которых я хотела с вами поговорить! О здоровье магистрата. О жизни в Чарльз-Тауне, как там дела. О садах… и о балах.
— Извините, — сказал Мэтью. — Насчет садов, как и балов, у меня слишком мало опыта. А дела в Чарльз-Тауне… я бы сказал, что они менее интересны, чем здесь, в Фаунт-Рояле. Магистрат все еще очень болен, но доктор Шилдс дал ему новое лекарство.
— Но вы же знаете, — сказала она мрачно, — что это ведьма прокляла вашего магистрата. За обвинительный приговор. И сомневаюсь, что он выживет после такого заклятия.
Мэтью почувствовал, как у него сжимаются зубы.
— У меня другое мнение, мадам.
— Ох… я… как я бестактна! Я только повторила то, что случайно слышала, как говорил проповедник Иерусалим сегодня. Простите меня, ради Бога, просто…
— Просто у нее нож вместо языка, — перебила Шериз, продолжая неизящно есть пальцами. — А извиняется она, только когда он ее саму порежет.
Лукреция наклонилась к дочери, очень похожая на змею перед броском.
— Ты можешь выйти из-за стола и оставить нас, — сказала она холодно. — Поскольку ты опозорила себя и нас всех, я надеюсь, что ты довольна.
— Я довольна. И еще голодна. — Шериз не встала с места. — А вы знаете, что она вас сюда притащила спасать меня? — Она стрельнула в Мэтью быстрым взглядом и облизала жирные пальцы. — Спасать меня от Фаунт-Рояла, от тупой деревенщины, которую моя мать презирает? Раз вы такой умный, вы это и так должны были понять!
— Прекрати это, Стюарт! — завизжала Лукреция. — Заставь ее замолчать!
Но хозяин дома только наклонил бутылку ко рту, а потом начал снимать пиджак.
— Это правда, — продолжала Шериз. — Моя мать продает им хлеб и пироги и желает им подавиться крошками. Слышали бы вы, как она их честит за глаза!
Мэтью уставился на лицо девушки. «Дочь своей матери», — сказал о ней Стюарт. Мэтью мог бы и сам увидеть ту же злобность. Самая беда, подумал он, в том, что Шериз Воган, похоже, очень умна. Например, она сразу поняла, что разговор о Рэйчел Ховарт сильно его смутит.
— Я сам найду дорогу, — сказал он миссис Воган. — И еще раз спасибо за ужин.
Он двинулся к выходу, унося с собой полкаравая хлеба.
— Мистер Корбетт, подождите, пожалуйста! — Лукреция встала. Спереди на платье расплылось большое пятно от сливок. Она опять казалась не в себе, будто бы эти перепалки с дочерью высосали из нее самую жизнь. — Пожалуйста… у меня к вам вопрос.
— Да?
— Волосы ведьмы, — сказала она. — Что с ними будет?
— Ее… волосы? Простите, я не понял, что вы имеете в виду.
— У ведьмы такие… как сказать… привлекательные волосы. Можно было бы даже сказать — красивые. И печально, если такие густые и красивые волосы просто сгорят.
Мэтью не мог бы ответить, даже если бы хотел, — настолько его ошеломил такой ход мыслей. А женщина гнула свое:
— Если эти волосы ведьмы отмыть… а потом отрезать в утро казни, то многие — я уверена — готовы были бы заплатить за локон таких волос. Вы только вспомните: волосы ведьмы можно продавать как талисманы, приносящие удачу. — Она снова просияла от самой идеи. — Можно будет их объявить твердым свидетельством, что Бог покарал Зло. Теперь вы меня поняли?
Но язык Мэтью примерз к гортани.
— Да, разумеется, вы тоже получите свою долю, — сказала она, приняв его изумление за одобрение. — Но я думаю, лучше всего, если вы сами вымоете и отрежете ей волосы под каким-нибудь предлогом, чтобы не пришлось делиться слишком со многими.
Он стоял, чувствуя, что его сейчас стошнит.
— Ну как? — спросила она. — Можем считать, что мы организовали компанию?
Как-то он сумел отвернуться и выйти в дверь. Уходя вдаль по улице Гармонии, ощущая на лице собственную холодную испарину, он слышал, как женщина зовет его из дверей:
— Мистер Корбетт? Мистер Корбетт?
А потом громче и пронзительней:
— Мистер Корбетт!
Глава 8
Мимо дома покойного Николаса Пейна, мимо таверны Ван-Ганди, где веселился народ, мимо лазарета доктора Шилдса и замызганного дома Эдуарда Уинстона. Мэтью шагал, склонив голову, держа в руке полкаравая хлеба, и ночное небо над головой полнилось звездами, а в голове царила беспросветная и полная тьма.
Он свернул налево на улицу Истины. Дальше, мимо почерневших развалин школы Джонстона. Она привлекла его внимание как свидетельство мощи адского огня и мощи адских людей. Он вспомнил, как метался в бессильной ярости в ту ночь Джонстон, глядя на неукротимое пламя. Пусть учитель бывает странным — с этой белой пудрой на лице и изуродованным коленом, — но очевидно, что учительство для этого человека было жизненным призванием, а потеря здания школы — страшной трагедией. У Мэтью могли быть свои подозрения насчет Джонстона, но тот факт, что этот человек не считал Рэйчел Ховарт ведьмой — и действительно, обвинение в колдовстве строилось на зыбкой почве, — давало Мэтью надежду на будущность образования.
Он пошел дальше, зная теперь, куда идет.
Хотя он старался двигаться тихо, звук открываемой двери встревожил Рэйчел. Он услышал, как она шевельнулась на своем соломенном ложе, будто туже сворачиваясь в позу самозащиты. До него дошло, что, раз дверь по-прежнему без цепи, то кто угодно может прийти дразнить ее и издеваться над ней, хотя очевидно, что мало кто решился бы на такое. Но среди тех, кто не устрашится, явно мог быть проповедник Иерусалим, и Мэтью подумал, что этот скользкий змей мог пару раз появиться, когда не было свидетелей.
— Рэйчел, это я, — сказал он. И прежде, чем она успела ответить и возразить против его присутствия, он сказал: — Я знаю, что вы не хотели моего прихода, и я уважаю ваше нежелание… но я хотел вам сказать, что все еще работаю над вашей… гм… ситуацией. Я не могу пока сказать, что мне удалось найти, но думаю, что некоторого прогресса добился. — Он сделал еще пару шагов в сторону ее камеры и остановился. — Пока нельзя сказать, что я нашел какое-то решение или доказательство, но я хочу, чтобы вы знали: я все время думаю о вас, и я не перестану бороться. Да… и еще я принес вам потрясающий фенхелевый хлеб.
Мэтью прошел весь путь до решетки и просунул хлеб между прутьями. В этой полной темноте он лишь смутно угадывал движущийся навстречу силуэт, как бывает в полузабытом наутро сне.
Не говоря ни слова, Рэйчел приняла хлеб. Потом другой рукой схватила за руку Мэтью и крепко прижала ее к щеке. Он ощутил теплую влагу слезы. Рэйчел издала сдавленный звук, будто изо всех сил старалась подавить всхлипывание.
Он не знал, что сказать. Но при этом неожиданном проявлении чувств у него сердце облилось кровью, и на глазах тоже выступили слезы.
— Я… я буду работать дальше, — пообещал он хрипло. — День и ночь. Если есть ответ, который можно найти, я клянусь, что найду его.
В ответ она прижалась губами к его руке и снова поднесла ее к мокрой щеке. Они стояли так, и Рэйчел цеплялась за него, будто ничего так не хотела в этот миг, как тепла — заботы — от другого человеческого существа. Он хотел коснуться ее лица, но вместо этого лишь сжал пальцы вокруг прута разделявшей их решетки.
— Спасибо, — шепнула она.
Потом, усилием воли преодолев минутную слабость, она отпустила его руку и вернулась к своей лежанке в соломе, унося хлеб.
Оставаться дольше — это было бы больно и ему, и ей, потому что еще больнее стало бы расставание. Он только хотел дать ей знать, что ее не забыли, и это ему явно удалось. Поэтому Мэтью вышел и шагал на запад по улице Истины, опустив глаза и морща лоб в глубоких размышлениях.
Любовь.
Это слово пришло не как оглушающий удар, а как легкая тень.
Любовь. Действительно ли это она? Желание кем-то владеть — или желание кого-то освободить?
Мэтью не думал, что бывал когда-нибудь влюблен. То есть он знал, что такого не было. Поэтому, не имея подобного опыта, он никак не мог ясно проанализировать свои эмоции. Быть может, такое чувство отвергает анализ, и его никоим образом нельзя уложить в четырехугольный ящик рассудительности. Из-за этого в ней было что-то пугающее… что-то дикое и неуправляемое, не поддающееся ограничениям логики.