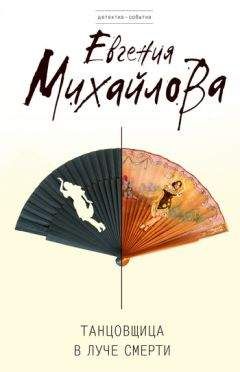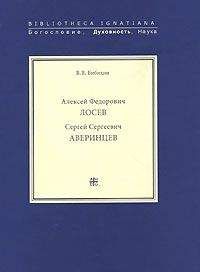Сергей Владимиров - Бог жесток
— Где ты подцепил ее? — спросил я у Семушки зло.
— Вот так да, соседушка, — хихикнул жизнерадостный Семушка. — Неужто запамятовал? Она ж у тебя сама на днях отиралась. Сижу я как-то утром на лавочке, забил косячок, а она из подъезда и чешет. От кого, стало быть, как не от тебя? Другие ж наши соседи для такой крали староваты будут…
— Учти, бесплатно с ней не выйдет, — сказал я.
— Порядок полный, — отмахнулся мой сосед. — К чему, ты думаешь, я ее целый день раскумаривал? Даст как миленькая, да еще спасибо скажет. Раз ты все равно сваливаешь, может, нам у тебя?..
— Валяй, — отозвался я, но смотрел не на Семушку, а в миловидное веснушчатое лицо Вальки, в ее обманчивые рыжеватые глаза.
В этот момент что-то изменилось в ней: дрогнул подбородок, плотно сжались губы — она узнала меня. Отвернувшись, я прошел мимо.
— Я не хотела, Жень… — донесся мне вслед ее слабый голос.
Но я не обернулся, не ответил. Валька Гуляева для меня уже умерла.
В маленьком домике на отшибе — мертвая тишина. Дверь поддалась свободно, я прокрался по темным сеням, поднялся по лесенке, так же беспрепятственно проник в жилую часть дома. Стоит свернуть направо, заглянуть за занавеску в комнату — и все разрешится. На меня напала нервная икота, рукоятка пистолета скользила в потной ладони. Тишина становилась невыносимой, до звона в ушах. Следующий шаг я сделал как зомби и ухватился за притолоку, стараясь удержать сорванное дыхание. Кровь сильными тупыми толчками горячо била в виски. И тут за моей спиной раздался легкий шорох. Я метнулся в сторону, налетел на сундук, сшиб несколько пустых банок, расставленных на нем; с громким звоном те рассыпались осколками, но еще звонче и отчаяннее верещала девушка:
— Мама! Мама-а-а-а!..
А еще я услышал исступленную ругань, но уже позже догадался, что воплю я сам — от страха, нервного перенапряжения и облегчения.
— Заткнись! Заткнись, дура! Извини! Это я! Я! Я!
Зина болталась в моих руках как тряпичная кукла. Потом тряслась самостоятельно. Потом рыдала в голос, обнимая стену. Потом успокоилась и сказала:
— Я всего лишь пошла в кладовку и оставила дверь открытой…
«А я всего лишь ожидал обнаружить твой труп», — хотел сказать я, но пожалел нервы девушки.
Отчаянное биение сердца затихало.
— Зачем ты позвала меня? — спросил я у Зины.
Она заговорила, придерживая рукой очки с поломанной дужкой:
— Мы уже так долго не виделись, но я все это время мучилась, что ничего не могу сделать для памяти Леночки, и для Саши, и для тех, кто ее тоже помнит и любит… А сегодня я разбиралась в Леночкиных вещах, они же все остались у меня… В шкафу у Леночки хранилась коробка из-под конфет с письмами и личными бумагами. Ее брал следователь, когда умерла Леночка, но, наверное, ничего не нашел, раз вернул все назад. Я и подумала, вдруг он что-то просмотрел, а вы… вы найдете что-то, что поможет разобраться в этом… Господи, не поверю, до сих пор не поверю…
Я был не то чтобы разочарован, я был едва ли не взбешен. Вызывать ночью, ничего толком не объяснив, зато заставив ожидать самого худшего! Неужели эта дурацкая коробка, в которую сунули свой нос уже достаточно людей, не могла потерпеть до утра?
— Ты переоцениваешь мои силы, Зина, — сказал я сквозь зубы, думая о том, чтобы не сорваться на брань. — Следователь, который вел дело, прежде всего профессионал. Если он не нашел в этих письмах зацепку, то вряд ли добьюсь удачи и я. Или ты полагаешь, что в тех бумагах содержится нечто зашифрованное, написанное молоком между строк? Так это из области фантастики и дурных детективов. Лена не шпионка, а самая обыкновенная женщина, которая умела любить, хранить верность, быть доброй и отзывчивой. Без сомнения, у нее был любовник, но его личность мне больше не интересна. И не надо делать из нее Мату Хари. Я, конечно, внимательно прочитаю все эти письма, однако не гарантирую, что обнаружу в них что-то сенсационное. Где та коробка?
Зина Куличок, не ожидавшая от меня такой резкости, опять плакала. Она пошарила за сундуком и слепо подалась мне навстречу прямо по битому стеклу, протягивая плоскую прямоугольную коробку из-под «Птичьего молока». В это мгновение что-то показалось мне странным, но вот только что, догадаться сразу мне не удалось. Я уже собирался принять коробку из ее рук, когда Зина выронила ее. Я сам нагнулся и принялся собирать выпавшие письма. Делал я это механически, не сводя взгляда с маленьких Зининых ног в теплых серых колготках. Ни в ногах, ни во всем облике девушки не было ничего женственного, и даже в такой близи от нее я не боялся умереть от приступа сладострастия. Я вспомнил Жанну Гриневскую и пожалел, что из-за моих постоянных подозрений наш роман закончился, так и не начавшись. Я уже собирался откланяться, когда Зина сделала еще один шаг ко мне. Она выглядела несчастной и жалкой. Стекло хрустнуло у нее под ногой, маленькое, залитое слезами личико скривилось некрасивой, почти что уродливой гримаской.
— Ой, я, кажется, порезалась…
Давно я не был в роли няньки!
— Бинт, вата есть? — спросил я, раздражаясь и в то же время потешаясь ее неловкости. — Заодно и совок с веником.
— Да, да, конечно…
На одной ножке она пропрыгала в комнату. Я зашел туда за ней следом и… немного потерялся во времени и пространстве. Стол был выдвинут на середину, застелен свежей скатертью и сервирован на двоих. Хрустальные вазочки с салатами, тарелочки с ветчиной и сыром, дымящаяся картошка с сосисками. Бутылки шампанского и коньяка. Но больше всего меня умилила хрустальная пепельница с магазинным ярлычком, купленная, несомненно, по поводу именно этого торжественного сборища. Зина задыхалась от волнения.
— Вы… хотите… ужинать?
«Созреешь по мужской линии, дай знать в любое время дня и ночи», — вспомнилось мне. Однако весело не стало. Я стоял посреди комнаты как истукан.
— Но вы ведь не подумали, что я… — пробормотала девушка.
— Я подумал, что это уже не ты.
Сама потрясенная своим поступком не меньше меня, она не знала, с чего начать.
— Вам шампанское или коньяк? — выдала наконец.
— Предупреждаю, что могу напиться…
— Ну и пусть…
— Устроить грязные танцы голым на столе…
— Вы шутите…
— Потянуть похотливые лапы в недозволенные места…
— Вы вовсе не такой…
— Неужели?! Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Тогда грамм двести пятьдесят коньяка. Залпом. И еще… Раз уж так все сложилось, давай устроим ужин при свечах.
— Ой, у меня нету свечей…
— Тогда при лучине. Стоп, стоп, стоп… А где твой фужер?
— Я… Я лучше сока…
— Рассказывай кому-нибудь другому. Сама заварила кашу, сама и хлебай.
Монашка смиренно наблюдала, как наполнялся ее пузатый стаканчик. Выпила молча, маленькими глоточками, точно горячий чай, не морщась. И лишь отняв посуду от губ, начала задыхаться. Я обмахивал ее кухонным полотенцем, словно опахалом, расплескивая, пихал апельсиновый сок, стучал ладошкой по спине, одним словом, ухаживал за дамой.
Минутами тремя позже дама пришла в себя, сидела на краешке дивана, розовая и потерянная.
— У меня ужасно кружится голова, — произнесла она непослушным языком.
— Плотнее закусывай. Горячее, побольше горячего, — поучал я, отставляя в сторону опустевший бокал и терзая зубами резиновую сосиску.
— Я еще никогда не пила коньяка, — признавалась девушка, смотря мне в рот.
— Когда-нибудь надо начинать. Иначе жизнь скучна и бессмысленна.
— Да… Когда-нибудь…
Тут-то я и догадался, что показалось мне странным в самом начале. Когда Зина приблизилась ко мне в прихожей, мои ноздри пощекотал запах… плохоньких дешевых духов, которыми она помазала у себя за ушами. Я грустно усмехнулся, так как никогда не подозревал, что из меня может получиться роковой мужчина.
— Расскажите мне, пожалуйста, о себе. — Теперь она сначала говорила, а уже позже пугалась своих слов.
Я посмотрел в смущенное некрасивое личико девушки.
— Мне особенно нечего рассказывать. Одно время я считал себя самым счастливым, потому что у меня были родители, которые всегда были ко мне добры и привозили из-за границы самые лучшие игрушки. Не у каждого ребенка предки — военные переводчики, изъездившие весь мир. Потом я стал самым несчастным, когда узнал, что они больше не вернутся, потому что на родине их ждет суд за измену. Сейчас они живы-здоровы, живут за бугром и очень горды, что в падении красного режима есть и их заслуга. Меня с ними ничего не связывает вот уже много лет, я не виню и не оправдываю их. Мы совершенно чужие друг другу, но веришь ты или нет, я ничуть не жалею. — Я поймал себя на мысли, что мне легко быть откровенным с Зиной, откровенным настолько, насколько можно быть откровенным с самым близким другом. Но такого друга у меня никогда не было.