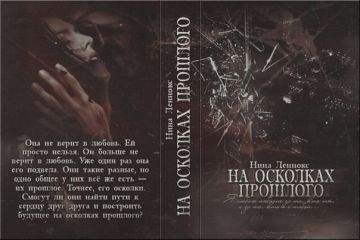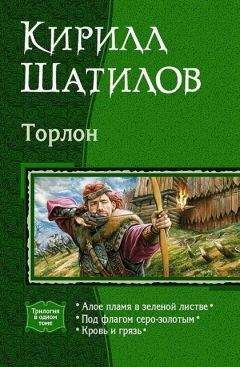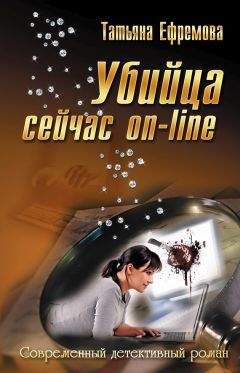Татьяна Шахматова - Унесенные блогосферой
Мы с Вадимом стащили ящики и вывалили их содержимое на пол в комнате. В отличие от бумаг в рабочем кабинете эти коробки действительно смотрели менее тщательно, если на них вообще обратили внимание. Многие листы были спрессованы и отделялись с трудом.
– Ваш брат не успел попасть в когорту ученых, черновые записи которых могут привлечь чье-то внимание. В отличие от диссертации, которая все-таки хранится в столе, черновики вряд ли станут перебирать, даже ближайшие родственники. Рассчитывать на то, что салфетку найдут здесь во время обыска тоже сложно, – рассуждала Вика, роясь в куче на полу.
После недолгой возни с черновиками, за которой Вадим наблюдал, сидя рядом в кресле, Виктория открыла очередную папку и извлекла оттуда то, что я поначалу принял за скомканный лист старой бумаги:
– Ну, вот он последний штрих к диссертации, – прокомментировала она свою находку.
Вадим подскочил, а Виктория взяла «штрих» за кончик и аккуратно разложила на ковре: теперь я понял, что это и есть искомая салфетка с эмблемой ресторана, доставившего в роковой вечер лобстеров и остальную провизию. От прежней жизни у салфетки остался лишь затейливый вензель. Белизна ее была запятнана желтыми подтеками слюны и следами сукровицы, из мелких ранок горла и гортани, материал измят, но впоследствии аккуратно расправлен.
Вадим инстинктивно отступил назад и практически рухнул, почувствовав сзади кресло.
– Ваш брат действительно был умен, – тихо сказала Вика, рассматривая ужасную находку, которая была аккуратно заложена между листами доклада в папку-уголок, какие раздают на разных солидных конференциях.
После минутного молчания она продолжила:
– Следствие всегда идет по следам воображаемого преступника. Именно поэтому полицейские обыскали мусоропровод и мусорный контейнер, шкафы и даже под обшивкой мебели смотрели, но не подумали перетрясти содержимое этих ящиков. Может быть, даже открыли крышку, но удостоверившись, что здесь плотным слоем лежат бумаги, пролистали их как карточную колоду и все. Ведь человек, не знакомый с содержимым этого балкона, этого шкафа, этого ящика, да еще в спешке не сможет незаметно подложить салфетку, защитив ее с обоих краёв. Чтобы мыслить как преступник, надо точно знать, что это за тип. Браво! Валера сумел обмануть следствие. Это был и вправду прекрасный аналитический ум.
Смотреть на Вадима Романихина было жалко и страшно. Он поднялся и забрал из рук Виктории папку, в которой обнаружилась салфетка. На папке была изображена эмблема веселого атома.
– Это папка с международной конференции в Новосибирске. Очень крутая конференция. Пик Валеркиной карьеры. Поэтому и папка такая… крутая, – одними губами проговорил Вадим.
Дизайнер конференции действительно постарался на славу, пытаясь скрасить строгость обстановки на серьезном научном мероприятии. Папка загибалась внутрь радужными волнами.
Однажды, узнав, что я несколько раз не попал на практику литературного редактирования, Вика сказала: «Никогда, слышишь, никогда не заканчивай свой текст чужой цитатой. Это говорит о творческом бессилии. Все остальное поправимо, и можно наверстать самостоятельно». Это было, по ее мнению, главное, что можно извлечь из этого предмета.
Что ж, делать нечего. Значит бессилие, но, по-моему, лучше не скажешь: «Думаю, люди гораздо чаще убивают тех, кого любят, чем тех, кого ненавидят. Возможно, потому что только тот, кого любишь, способен сделать твою жизнь по-настоящему невыносимой». Агата Кристи.
Возможно, все уже и вправду написано и сказано до нас, и мы живем в готовой словесной матрице во власти чужих слов и чужих мыслей? Ну, вот, я выполнил наказ – последнее слово мое. Вопрос только в том, имеет ли это слово хоть какой-то смысл?
Глава 23
По правилам и без
«Научить человека чему-нибудь
можно только тогда,
когда личность учащегося священна».
(Б. Шоу «Пигмалион»)На кафедру я заглянул в поисках Ады Львовны, перед которой мне было до сих пор неудобно за скандал, учиненный Викой, и особенно за «старую извращенку». Какие бы ни были отношения у этих двух сложных женщин, я не хотел быть втянутым.
Я чувствовал вину и в мыслях уже несколько раз извинялся. Каждый раз я спрашивал себя, почему мне снова и снова вспоминается эта женщина с глазами-хамелеонами и крепким рюмочным станом, всегда чем-то туго перепоясанным, как будто перехваченным твердой рукой? Ее строгое лицо с капризным ртом неумолимо приближалось и укоризненно покачивалось на фоне белой стены. Черные, волосы встали вертикально, и блестели, будто вороний хвост. Открыв глаза, я понял, что это только сон, но сердце мое учащенно билось, как при удушье. Ведьма, ведьма, панночка, панночка, стучал в висок литературоцентричный пульс. По-моему, филологические дамы, и Вика в их числе, совершенно заморочили мне голову: Элизабет Батори, Пигмалион, Примадонна, Ганибал Лектор. Проблема была только в том, что все эти аллюзии относились к жизни весьма косвенно и только путали, придавая реальным фактам и людям какой-то многослойный и ускользающий смысл. Я решил не наверчивать сложностей и просто сходить извиниться. К тому же на кафедре мне был нужен еще один персонаж – Сандалетин, которому недавно Борис поручил закрыть все мои зачетные ведомости.
Вообще-то кафедра – это некий святой чертог, в который студенты стараются соваться пореже. Если, конечно, они не активисты, не старосты потока или не обезумевшие перед угрозой отчисления должники. Но до сезона «охоты» пространство кафедры сакрально.
Однако сегодня здесь было не как обычно. Сонное царство кафедры, которое с портретов величественно обозревали классики литературы, превратилось в настоящий беличий домик. Обе лаборантки – Лилечка и вторая, какая-то совсем безымянная, со скучным серым лицом, суетились так, будто им обещали профессорскую должность.
Во главе длинного кафедрального стола, предназначенного для общих заседаний личного состава кафедры, сидел Сандалетин, обложенный толстыми журналами и сборниками в мягких и твердых обложках. Он методично перекладывал книжки с места на место и раздавал команды высоким подростковым голосом:
– Лилечка, сходите в библиотеку и закажите вестник чувашского и мордовского университетов за прошлый и позапрошлый годы. Вот в этой пачке найдете мои статьи, отксерокопируете и поставите на каждой печать деканата, что копия верна…
На меня преподаватель взглянул недобро и молча достал из портфеля заполненную ведомость за прошлый семестр.
– Отнесите в деканат, Берсеньев, я вам все проставил, – сквозь зубы проговорил он и сделал вид, что занят бумагами.
Лилечка прошмыгнула мимо меня к ксероксу, и тот со страшным звуком начал выплевывать листы с копиями работ Сандалетина.
– Представляете, для получения премии потребовали все мои труды за десять лет, – обратился Сандалетин как будто к Лилечке, но, конечно, слова эти предназначались моим ушам. – Строгий научный подход, что тут скажешь, все правильно.
Пока я закладывал ведомость в прозрачный файл, на кафедру с занятий начали возвращаться другие преподаватели. Совсем еще молодая девушка-аспирантка, которая вела у нас ту самую практику литературного редактирования, куда я не ходил, подошла было к ксероксу, держа материалы к занятию, но Лилечка, состроив жалобную гримасу, кивнула на Сандалетина, мол, спрашивай разрешения у него.
– Все срочно, все срочно! – закатил глаза Сандалетин, и аспирантка без лишних слов растаяла вместе со своими материалами.
Печальная картина. Миллер права: теперь, когда Сандалетин готов обложится всероссийским признанием, месть его будет поистине чудовищной.
Я поздоровался с заведующей, которая лишь молча кивнула и, согнувшись, в предчувствии скорой смены должности, прошла в свой кабинет.
Выходя с кафедры, я встретил ту, ради которой пришел: Миллер выплыла из лифта в величественном плаще своих черных волос, в темно-красном строгом платье вечной победительницы и направилась прямо в мою сторону.
– Здравствуйте, Ада Львовна…
Она повернула голову, как будто только что обнаружила мое присутствие, хотя коридор был почти пуст, и не заметить меня было сложно. Взгляд ее был зелен, спокоен, но смотрела она сквозь, как будто не узнавала.
– Вы не видели заведующую? – спросила она, не удостоив меня приветствием.
Ее губы были немного поджаты: она была обижена.
– Ада Львовна, я хотел бы извиниться… за Вику… Не знаю, почему она… – начал было я, но она посмотрела так непонимающе-холодно, что я запнулся. – Я хотел только поблагодарить лично вас… Что бы ни говорила Вика, лично я вам очень благодарен… – забормотал я, но она вдруг весело и звонко рассмеялась, не дав мне договорить.
– О чем вы говорите? – она просияла улыбкой, и я почувствовал, что лечу вниз с обрыва и разбиваюсь об эти надменные смеющиеся ярко-красные губы.