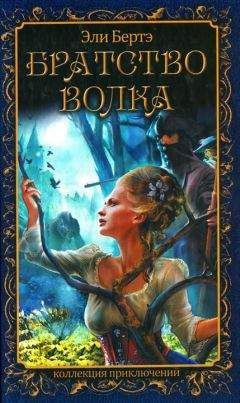Екатерина Лесина - Ошейник Жеводанского зверя
И эта дверь была открыта.
Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро...
Мудро будет отступить. Зачем рисковать? Незачем. Он, тот, кто прячется за дверью, ждал тебя. Он обыграл тебя, и цветы на полу – лишь маленький подарок, намек, который ты, Никита, должен был понять. И он, зверь, рассчитывает, что ты не отступишь.
Он прав. Никита пинком распахнул дверь и...
Комната была пуста. Голые стены, серые стены, неприлично обнаженный цемент, которому не место в этой квартире. Фотографии, прилепленные медицинским пластырем. Листы бумаги на полу. Стул в центре. Девушка, привязанная к стулу...
Потолок упал на голову, а рука, вывернувшись непостижимым образом, выпустила пистолет. Нет! Проклятье, он не может...
Второй удар породил в голове звездочки, которые докатились до глаз, ухнули больно о сетчатку и погасили свет. Темно. И тело немеет. Розовые лепестки шуршат под ногами...
И надо было звонить Марьянычу.
И снова взволнованное памятью тело предало меня болезнью. Супруга моя, пребывая в смятении, уже не пробует запретить мне писать, паче того, поняв необходимость мою в исповеди, она сама ныне будет писать мой рассказ. Душою своей и нашего единственного сына она поклялась, что не изменит ни слова. И я ей верю.
Итак, тем вечером мы с братом впервые остались вдвоем, и только вдвоем. Обработав, как умел, его раны, я напоил Антуана горячим вином и уложил в постель. Сам же лег на полу, завернувшись в медвежью шкуру.
Пусть и покажется сие престранным, но я быстро провалился в глубокий сон, из которого вынырнул лишь тогда, когда лица моего коснулось нечто влажное и теплое. Открыв глаза, я замер в ужасе: надо мною, свиреп и огромен, возвышался Зверь.
Сложно описать весь тот ужас, каковой объял меня. Я лежал, уже полагая мертвым и себя, и Антуана. Я не смел дышать, не в силах был шевельнуть ни ногой, ни рукой, ни даже глаза закрыть, дабы не видеть ощеренной пасти.
В свете почти погасшего камина и луны Зверь виделся еще более отвратным, чем был запечатлен в моей памяти. Ростом он много превышал обыкновенного волка. Грудь его была широка, лапы крепки и узловаты, спина вздымалась горбом, а опущенная к самому моему лицу морда походила на свиную. Короткая, тупая, с черным пятном носа и короткими усами, с широкими челюстями и длинными, с мой мизинец, клыками на них. Зверь сопел, обдавая меня смрадом хищника, но отчего-то медлил вцепиться в глотку. Его глаза поблескивали алым и казались дьявольскими угольками.
Я, отошедши от первоначального ужаса, теперь думал о том, как прогнать его, жалея об оставленном мушкете, о ноже, каковой лежал в отдалении.
И тут над ухом моим раздался тихий свист и шепот Антуана:
– Ко мне...
Зверь тотчас перескочил через меня и, о диво, ринулся к моему брату, но не для того, чтобы растерзать его, как он терзал иные жертвы. Нет, теперь Зверь был подобен ласковому псу, он вертелся, норовя подставить уродливую голову под Антуановы руки, вилял хвостом и даже повизгивал. А мой брат, мой несчастный безумный брат, обнимал эту тварь и нашептывал ей ласковые слова.
– Не бойся, Пьер, – наконец, обратился он ко мне. – Моник не причинит тебе вреда.
Я медленно поднялся, и Зверь, обратившись ко мне, пристально следил за каждым движением. Теперь он – или она? – вновь был недоверчив. Насторожен. Готов нападать.
– Сидеть. Сидеть! – Антуан и сам сел на кровати, неловко потянувшись, поморщился – видать, спина саднила, – хлопнул ладонью по лежанке. – Сидеть, Моник. Свой. Пьер свой, понимаешь?
– Значит, это правда? – спросил я его, леденея сердцем.
– Правда? Слишком много правды, – ответил он, обнимая шею Зверя, – чтобы я мог ответить тебе, которой из них следует верить. Но я хочу рассказать тебе свою. Умоляю выслушать меня, а потом... потом ты сделаешь то, что следовало сделать давно.
Зверь, вздохнув, положил голову Антуану на колени и слабо шевельнул хвостом. Чего стоило схватить мушкет и выпустить в него заряд дроби, избавляя раз и навсегда мир от этого ужаса? И отчего я, твердо знавший, как следует поступить, медлил?
– Ты ведь знаешь, что отец всегда был расположен ко мне, – начал Антуан. – Однако ты зря завидовал, ибо обернулась эта любовь многими бедами...
Рассказ Антуана Шастеля, записанный со слов его старшего брата Пьера супругой оного
С самых ранних лет я пребывал в убеждении, что надо мною распростерта рука Господа, каковая щедро осыпает меня всяческими милостями, и отец мой лишь поддерживал сию уверенность. Он не раз и не два говорил мне:
– Антуан, Господь любит тебя и нас.
Правда, после добавлял:
– Однако именно возлюбленным чадам своим он посылает наиболее тяжкие испытания. Вспомни Спасителя нашего, Иисуса Христа, распятого жертвою во искупление грехов людского племени. Вспомни Петра, забитого камнями. Вспомни святого Себастьяна, казненного язычниками, святую Катерину...
Я помнил. Я любил слушать, как он рассказывает о святых, проникновенно и убежденно, словно бы сам являлся свидетелем великих жертв, ими совершенных. И каюсь, что любил примерять терновые венцы на многогрешную голову свою. За что и был наказан.
Ты, Пьер, верно, не знаешь, но отец наш состоял в ордене Лойолы, премного уважая сего славного деятеля. Он был предан, как требует орден, и телом, и разумом, и духом. И он желал, чтобы я, возлюбленный сын его, тоже стал на сей путь.
Он привел меня к де Моранжа, каковой пусть и выглядит пустым фатом, но на самом деле занимает немалый чин в орденской иерархии, и сами великие генералы прислушиваются к слову его. И граф, единожды заглянув мне в очи, а показалось, что будто и в саму душу, одобрил решение.
– Отведи его пред очи Спасителя, – сказал он. – И предай сына своего в руки Господни, подобно тому, как сделал сие Авраам.
Я помню благоговение, каковое объяло меня на пороге тайного места, путь в которое начинался на горе Мон-Муше. Путь, спрятанный в расщелине, выводил в каменный коридор, грубый и древний. Он был построен еще тамплиерами, однако пережил создателей своих и ныне служил во славу Божию. Я видел тайные знаки на стенах его, когда их, испещренных трещинами, затянутых плесенью, касалось пламя.
Я видел кости, лежащие прямо на ступенях, и другие, прикованные к стене. Я видел белые плащи, нетленные, как будто крестоносцы еще вчера бросили их тут.
– Смотри! – говорил отец, спускавшийся следом за мной. – Смотри, как Господь карает нечестивых! Нет им покоя!
И улыбались желтые черепа, и виделись на них мне лица, искаженные ужасною мукой, и слышались голоса, взывающие о милосердии.
Наконец, предо мной стала дверь. Высотой в три человеческих роста, она была сделана из доброго дуба, перетянутого железными полосами. Трижды постучал отец. И трижды произнес:
– Ad maiorem Dei gloriam!
На третий раз дверь беззвучно отворилась, впуская нас в огромную залу.
Тысячи свечей наполняли ее неровным светом, а казалось – сотни тысяч, ибо отраженные в зеркалах, свечи множились, растекались бесконечностью пространства.
– Иди, мой возлюбленный сын. – Отец осенил меня крестным знамением и указал на узкую тропу, пролегшую меж огненных полей. – Иди и предстань пред лицом его.
Я шел. Я был подобен язычнику, пред которым вот-вот откроется истина, ослепляющая и всеобъемлющая, ошеломляющая величием и возвышающая его над иными.
Я шел, и каждый шаг отзывался в сердце моем песнями райских птиц.
Я шел и думал о подвигах грядущих, которые совершу во имя его.
И уж точно не думал о том, что, уподобившись Петру, отрекусь от Бога. А ставши Иудой, предам и единоверцев.
В центре пещеры возвышался каменный алтарь, убранный дивным покрывалом и белыми лилиями, символами чистоты моих намерений. А над алтарем вздымался крест, с которого, печален и тих, взирал на меня Спаситель.
О, сколько мудрости было в очах его, сколько терпеливости и смирения. Я пал на колени и протянул руки, умоляя дать мне сил. И в тот же миг из пробитого копьем бока, из раны рисованной – ибо статуя, пусть и великолепная, была все ж делом рук человечьих – выкатилась капля крови.
– Спаситель принял его! – тотчас прогремел голос. – Спаситель берет душу эту под руку свою!
Позже я узнал, что удивительная статуя была вывезена из самого Рима Лойолой, который опасался, что нечестивые бенедиктинцы и доминиканцы, погрязшие в распутстве и ересях, осквернят сие чудо. Много лет Великое Распятие блуждало по миру, пока, наконец, не осталось в подземельях под Мон-Муше.