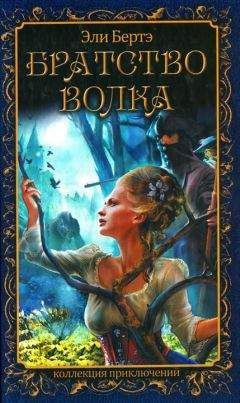Екатерина Лесина - Ошейник Жеводанского зверя
Я был почти в раю.
А на следующий день в барак – первая ночь, проведенная под крышей, в каком-то подобии постели, – за мной явился бербер и знаком велел следовать за собой. Мы шли. Я не знал, куда, не осмеливался спросить, как не осмеливался бежать или напасть, хотя еще вчера нашел камень, хороший тяжелый камень с острым краем, который при удачном ударе пробил бы череп моего хозяина. И он – потом я узнал – он знал про камень, но меж тем, уверен в себе и воле Пророка, которая защитит его от всех невзгод, бесстрашно повернулся ко мне спиной.
Помню ли я город? Помню. Дома, заборы, хижины, слипшиеся боками и крышами, смуглые дети, окружившие нас визгливой толпой. Они показывали на меня пальцами, свистели, но меж тем, опасаясь моего хозяина, не смели кинуть камнем или грязью. Я помню женщин, укутанных в тяжелые покрывала. Я помню мужчин, которые вежливо раскланивались и спрашивали о чем-то бербера, а тот отвечал на своем наречии, и эти ответы вызывали одобрительные кивки. Так мы достигли городской площади, на которой возвышалась мечеть.
– Войди, – сказал хозяин, глядя мне в глаза. – Войди и поклонись Аллаху. Прими нашу веру.
Что случилось, если бы я согласился? Не хочу знать, не хочу терзаться еще и этими сомнениями. Я отказался, я, гордый собственной гордостью, плюнул в лицо моему хозяину и сказал:
– Никогда!
Я готов был умереть во имя своей веры, но он, бербер и дикарь, решил иначе.
– Что ж, – сказал он. – Ты сам выбрал свою судьбу. Идем.
На сей раз я шел, уверенный в скорой гибели, и гордо расправил плечи, собираясь принять ее с честью. Но путь все длился и длился, а каждый шаг порождал все новые страхи. Мне ведь хотелось жить. Несмотря ни на что, хотелось! Я ведь мог притвориться, что кланяюсь Пророку, но на самом деле остаться в лоне святой Церкви. Наше братство дозволяет менять лики веры, если душа хранит верность единственно Господу.
Но я уже не знал, к кому стремилась моя душа!
И вот мы оказались на краю города, у черного зева пещеры, из которой доносились вонь и крики. Тотчас навстречу берберу выскочили двое, скрутили меня и поволокли внутрь. Они бежали по темному коридору, освещенному редкими факелами и уходящему в глубь горы. Они смеялись и спрашивали меня о чем-то, но я не понимал языка. Я всецело сосредоточился на том, чтобы не упасть, ибо падение виделось мне позором.
Но вот коридор закончился дверью, добротной, перехваченной полосами клепаного железа и запертой на тяжелый замок, у которого уже возился третий прислужник. Он был наг, не считая набедренной повязки, и огромен. Широкие плечи способны были принять тяжесть небесного свода, ноги-столпы попирали землю, а кулаки, верно, способны были расколоть ударом камень. А вот голова его, крохотная, сплющенная с боков, скорее годилась для детского тела.
Меня поразил взгляд уродца, печальный и покорный, детской своей наивностью выдающий, что разума в этом гигантском теле осталось самую малость. Меня толкнули в его объятья, пролаяв какой-то приказ, который человек понял и, ухватив за руку – осторожно, верно, ведая о своей силе и моей слабости, – потянул к двери.
За ней открылось поле, усыпанное песком и опилками, освещенное факелами, огороженное решетками, за которыми бродили, рыкая и ярясь, звери. Я видел желтогривых и желтоглазых львов, привезенных из Черной Африки, и полосатых леопардов, черных пантер и рысей, волков, сбившихся одной стаей, и тяжелокостных, свирепых молосских собак. Я понял, что ждет меня за мое ослушание: смерть. Отвратительная, грязная, никому не нужная смерть от клыков животных, которым все равно, кто я: католик, гугенот или последователь Аллаха.
И я испугался. Я упал на колени и протянул руки туда, где, по мнению моему, мог находиться хозяин:
– Спаси! И я сделаю все, что ты хочешь!
Господи, Пьер, я оказался трусом. Я предал и себя, и отца, и братьев, и веру... я предал все, что только можно было предать! И был спасен, но лишь для того, чтобы навеки, как мне казалось, остаться в подземелье. Мой хозяин, на прощанье заглянув мне в глаза, сказал:
– Слабый мужчина. Нельзя уважать.
А я лишь плакал, размазывал по лицу слезы и думал лишь о том, что остался жить...
Когда по крови бежит адреналин, время ускоряется. Порой мне кажется, что я начинаю видеть его, тугую спираль с бесконечным числом оборотов. Я могу взять в руки, свернуть или отпустить, подстегнуть или замедлить. Расширить зазор между событиями.
К сожалению, не могу изменить сами события.
Континуум времени неподвластен. Континуум – мавзолей серого камня на моей жизни. Широкое основание прошлого, почти исчезнувшее в земле, узкая вершина надежд, протыкающая небеса золоченым шпилем.
Сбудется – не сбудется. Случится – не случится.
Чаще случается, чем нет, и эта предопределенность, обычно нравившаяся мне, сейчас разламывает мою сущность надвое. Одна половина требует не мучить брата, вторая – спасти его от его же глупости.
Сам Тимур молчит, и если прежде его молчание не слишком меня пугало, поскольку я точно знал – мы помиримся, то в данном случае положение осложняется.
А если он и вправду любит ее? Вот эту нелепую, бестолковую девицу, которая оказалась слишком любопытной, чтобы жить.
А если его любовь настолько сильна, что он никогда не простит мне именно этой смерти?
А если он сам, устав бороться со мной, уйдет следом?
Я останусь один. И это действительно пугает.
Время-лента вновь распрямляется, выбивая серые блоки из гранитной плоти континуального мавзолея. Трещат стены, качает игла, полосуя небо на ровные шматы несбывшихся надежд. Брызжут то ли еще слезы, то ли уже кровь.
И я не вижу иного пути.
Прости, Тимур, я не могу быть другим.
Перетерлась лента, сплетенная Карликами из шести сутей. Растаял в бешеном ритме моего сердца шум кошачьих шагов, сгорела над огнем души женская борода, усохли корни гор, растворились медвежьи жилы, наделяя силой, захлебнулось слезами рыбье дыхание и смылась птичья слюна. Волк Фернир в новом обличье вышел на свободу, стряхнул остатки пут и зевнул, готовый проглотить чужое солнце.
Берегитесь люди, наступает Рагнарёк.
Голова гудела. Как будто не голова, а пустая бочка, в которую бросили камушки-мысли и потрясли, перемешивая. А потом рядом с носом что-то щелкнуло, ломаясь, и в ноздри вползла отвратительная вонь нашатыря.
– Ну же, милая! Давай. Открой сомкнуты негой взоры, навстречу утренней Авроры звездою севера явись...
Камушки сталкивались друг с другом и, ударяясь о стенки головы-бочки, порождали гудение. Занудное такое гудение.
– Вчера, ты помнишь, вьюга злилась... ах нет, вьюги не было. Было другое. Тебе понравилось? – нашатырь не отпускал, голос издевался.
Тимур? Вчера был Тимур. И она, Ирочка, тоже была. Вместе они были. А сегодня. Почему такое странное сегодня?
Она открыла глаза, утонув в бледной мути дня, сквозь которую размытым, кривым пятном проступил силуэт человека.
– Взоры открылись, нега ушла. Извини, драгоценнейшая, за то, что я так, но обстоятельства вынуждают.
Кто это? Плывет-то как... и тяжело. И сухо во рту, губы потрескались. Облизать бы. Не вышло. Губы заклеены. Заклеены?!
– Не надо, не надо паники. Еще рано. Или уже поздно? Но это как посмотреть. В любом случае, орать ты не сможешь. Жаль, мне нравится слышать голоса тех, кого я убиваю.
Зрение окончательно сфокусировалось. Тимур? Ее Тимур, нежный и осторожный, стеснительный и настойчивый, стоял с ампулой нашатыря и мокрым полотенцем.
– Вот так лучше.
Не Тимур. Другой. Он, но не он.
– Давай знакомиться, драгоценная моя. Меня зовут Марат. И я собираюсь тебя убить.
Этот разговор длился долго. Бесконечно долго, словно Марат сам искал повод потянуть время. Ему не нужно было Ирочкино внимание, как и ее ответы, как и вообще присутствие. Порой, замирая на полуслове, он выходил из комнаты, чтобы вновь вернуться и продолжить оборванный разговор.
На сей раз он ухватился за старую историю:
– Ты веришь в оборотней? Нет? А зря. Существуют. Лу-гару. Логры. Люди старой расы, люди двойной крови... я про себя говорю, а не про Антуана. Антуан Шастель если и был в чем-то виноват, то в слабости. Видишь ли, девочка, мир слабости не прощает. Он сильных любит. Наглых. Приспособленных. Конкуренция и естественный отбор. Помнишь?
Ирочка мотнула головой. Ответить, появись такое желание, она не могла – клейкая лента плотно стягивала губы.
– У людей, как у животных, только немного сложнее. Конкуренция приводит к тому, что слабые не погибают, но начинают играть под сильных. Надеются выжить. – Марат присел на корточки, положив локти на Ирочкины колени и, глядя снизу вверх, проникновенно сказал: – Тимур тебе врал. Ты именно слабая. Ты живешь не для себя, а для своей семейки. Ты позволяешь им управлять собой. Ты готова лечь под Тимура, под меня, под кого угодно, лишь бы им было хорошо... плачешь? Рано еще плакать. Мы ведь только-только начали разговор. И я не пытаюсь тебя обидеть.