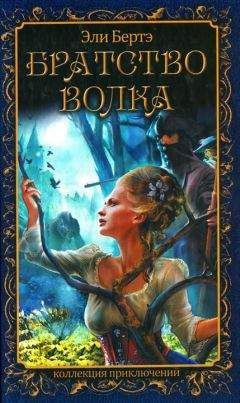Екатерина Лесина - Ошейник Жеводанского зверя
Я не позволил ему прикоснуться к Антуану, ярость, каковую вызвали в сердце моем эти слова, захлестнула меня с головой, лишив всякого рассудка. Видимо, жила и во мне отцовская буйность нрава, дремала до поры, а теперь, пробудившись, заволокла очи безумием.
Вытолкав отца из дому, велев ему убираться, признаюсь, в словах, напрочь лишенных сыновней почтительности, я вернулся в дом, отобрал у Антуана плеть – она оказалась ко всему и жесткой, с вплетенными в кожаные хвосты свинцовыми шариками, – кинул ее в камин.
– Сегодня же сожгу.
Он снова замкнулся, замолчал, севши на корточках у камина, растерянный и несчастный, желающий вернуть сие орудие пытки и неспособный преодолеть себя.
– Не надо, Антуан. – Я, присев рядом, осторожно обнял его. – Он дурное говорил. Ты ни в чем не виновен. Ты не можешь быть виновен так, чтобы терзать себя.
Он мотнул головой, глянул искоса, и слепленные мукой губы разомкнулись:
– Прости меня, Пьер. Я... он говорил, что я не должен приближаться к тебе, что ты невинен, точно дитя в Эдемском саду, а мы все... мы...
Антуан закрыл лицо окровавленными ладонями и зарыдал, громко, сотрясаясь всем своим израненным телом, в котором уже почти не осталось жизни.
Дитя. Да, я был подобен дитяти, заигравшемуся и капризному, ослепленному многими игрушками и не видящему ничего, что творится вокруг. Я был покорен, послушен, ибо сие позволяло мне освободиться от груза решений. Я позволял отцу думать за себя. Я был способен лишь жаловаться, и то, не смея произносить сии жалобы вслух.
Я был виноват.
Что мне стоило хотя бы раз прийти сюда? Самому протянуть руку Антуану, самому заговорить с ним? Увидеть. Узнать. Защитить. Нет, я не Каин, убивший Авеля. Я много, много хуже, и стыд за все эти годы снедал мое сердце.
И как знать, сделай я хоть что-нибудь тогда, может, и не случилось бы беды в Жеводане.
Говорят, что любой маньяк тайно желает, чтобы его остановили. Врут. Точнее, облекают свои желания в некое подобие закона.
Я не желаю быть пойманным, я не желаю, чтобы меня останавливали и уж тем паче запирали в клетку психиатрической больницы или камеры, выставляли зверем под прицелы камер и любопытных глаз, обкладывали флажками вопросов, фактов и собственного их, извращенного, любопытства.
Нет, я скорее умру...
Но я не умру. Зачем? Пока я здесь – принимайте, каков есть, прощения просить не стану, как и предупреждать об охоте. Как тут предупредишь, когда с каждым разом все чаще и чаще, ближе и ближе. Я могу предположить, что чувствовал мой предок, выводя на охоту Зверя. Оба предка. Один прикрывался религией, второй – слабостью, но на самом деле им нравилось убивать. Просто они не смогли себе признаться, что важна не вера или неверие, но будоражащий аромат крови.
Скажи, Красная Шапочка, что ж тебе дома-то не сидится? Почему бродишь по лесам, нарушаешь покой старого волка? Не знаешь сама? И я не знаю. Но мы встретились, девочка моя, и тебе не отделаться пирожками. Кто сказал, что волки любят тесто? Волки любят людей.
Я это знаю точно.
И Тимур знает, просто не решается принять. Тимур слабый, я сильный, но так уж вышло, что мы не можем друг без друга. Он без меня погибнет, не приспособленный к этой жизни, а я без него сдохну от одиночества.
Я не хочу одиночества. Я помню, каким оно было после смерти Стефы. И я люблю брата своего, а он любит меня. Мы всегда будем вместе.
Сегодня он запер двери. Все до одной, оставив открытой лишь неправильную комнату, в которой стоял позабытый, уже изрядно запылившийся стол.
– Мне нужно уйти, – сказал Тимур каким-то другим, глухим голосом. – Вечером вернусь. А ты займись работой. За что я тебе, в конце концов, плачу?
Это было обидно, словно он разом перечеркнул все, что было между ними. А было ли что-то, кроме очередной Ирочкиной фантазии?
Наверное, нет.
И она, сидя у окна, наблюдала за улицей, делала пометки в тетради – серые страницы, синий стержень, оставляющий вмятины, – и думала о ключе и двери.
Ирочка просто посмотрит. Заглянет и сразу назад. Что бы там ни было, она имеет право знать.
Убеждать себя получалось плохо. По коридору Ирочка кралась, сжимая в руке скользкий ключ и придумывая отговорку на случай возвращения Тимура. У двери долго мялась, прижималась к замочной скважине то ухом, то глазом, пытаясь угадать, что же там такое.
Тишина. Темнота. Пустота.
Замок капризничал, не желая принимать ключ-подделку, но после щелкнул – как-то очень уж громко. А ручка пошла вниз, пропуская.
Дерни за веревочку, дверь и откроется...
В комнате было пусто. Пусто-пусто-пусто. Шар из бумаги на нитке-проводе под потолком. Коврик на полу. Серый цемент, белая бумага. Зеркало с двумя трещинами: крест-накрест, точно кто-то взял и перечеркнул все отражения сразу.
Не надо сюда заходить.
Надо-надо-надо – глухое эхо сердечных ударов разносилось по телу. Толкало. Шаг и еще. Наклониться и поднять лист. Чистый почти, только в левом углу черный отпечаток пальца укрывает единственное слово: «Татьяна».
Оно же убегает на второй лист, обращаясь в «Танечку», и на третий, становясь «Танюшей». И на четвертый, и на пятый...
– Ты все-таки решилась? – тихий вопрос заставил вздрогнуть и выронить лист. Листы. Полетели, потянулись вдоль пола, рассыпаясь причудливыми узорами.
– Я... я просто... мне нужно было...
– Ну если нужно, – Тимур пожал плечами. – Тогда ладно. На самом деле здесь ничего нет.
Есть! Есть что-то, чего Ирочка не видит и не понимает. Запредельное, но реальное.
– Память, – подсказал он, подавая руку. – Память об одном очень близком и важном для меня человеке, которого я не сумел спасти. Пойдем, тебе здесь искать нечего.
– Мы учились вместе. – Тимур, кажется, не собирался упрекать ее за излишнее любопытство, наоборот, он выглядел довольным, словно Ирочка сделала что-то важное, хотя и сама не понимала, что именно.
Он сидел на полу, на серо-голубом ковре, расшитом арабской вязью, и рассказывал:
– Я был влюблен. В нее все были влюблены, но она выбрала Йолю. Самого бестолкового, самого непригодного для жизни. И самого романтичного. Если бы ты слышала, как он играл на скрипке. Если бы ты знала...
На низком столике перед Тимуром чеканный поднос, широкая ваза с фруктами и два бокала.
– А потом ее убили. Йоля и убил. Случайно. И признался мне. И попросил помощи. Я помог... помог другу, помог убийце. Сложно все... следствию соврал, и мне поверили. Мне вообще легко верят.
Плоская бутылка с кривым горлышком, тугая пробка, наколотая на витой рог штопора, темные крошки на Тимуровых пальцах.
– Это благодаря мне его так и не нашли... знаешь, странно. Я ведь преступник, если посмотреть с точки зрения нормального человека. Я должен был донести, но... не смог. Я не Иуда. И Иуда, потому что Танечку забыть не могу, все думаю, какой бы она стала. Возможно, на тебя похожей. Почему ты молчишь?
Потому что не знает, что ответить. Сочувствую? Соболезную? Мне очень жаль? Ты верно поступил, когда помог сбежать преступнику? Или поступил неверно, на самом деле следовало донести на друга? Ты болен, потому что в запертых комнатах воспоминания хранят лишь безумцы?
– Кто ты? – спросила Ирочка, принимая бокал с вином. – Кто ты такой?
– Тимур.
– А Марат?
Не удивился вопросу. Ждал? Наверное. Приготовил ответ? Точно.
– Брат. Близнец. Мы поздно друг друга нашли. Родовое проклятье. Вот. – Тимур приподнял руку, демонстрируя серую веревочку. – Это напоминание. В роду Шастелей братья не уживутся. Наша мать знала, она разделила детей, оставила себе Марата, а меня отправила в детдом. И тетка знала, согласилась с разделением. Только мы все равно встретились. Уже после ее смерти. И оказалось, что мы нужны друг другу... очень нужны.
Все просто. Брат. Детдом. Грустное детство. Лешка бы сказал, что история выдумана, но разве выдуманные истории не могут случиться в жизни? Про себя Ирочка решила, что могут.
– Марат другой, – меж тем продолжил Тимур, поднимаясь. Потянулся, покачнулся, перекатываясь с пятки на носок и обратно. Замер. – С Маратом тебе лучше не встречаться. У него было тяжелое детство. Как у тебя, например.
Смена темы. Граница для Ирочкиного любопытства. И она принимает. В конце концов, люди имеют право на частную жизнь. Главное, что в запертой комнате нет ничего, доказывающего виновность Тимура.
Напротив, человек, столь преданный первой любви, не может причинять боль.
– Ты же белая ворона, а таких клюют.
– Так заметно? – Вот теперь ее очередь делиться памятью, и после Тимуровых откровений отказывать неудобно. – Я... я не то чтобы ворона. Просто...
– Тебя стыдятся. Тебя считают существом второго сорта и не стесняются показывать это посторонним. Наверное, если бы они могли, они бы держали тебя в кладовке. Или в сундуке. Почему?