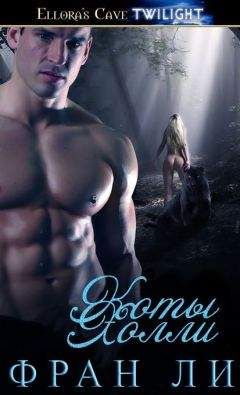Фил Уитейкер - Портрет убийцы
— Вы и представить себе не можете, каково это, когда знаешь, что́ произошло, и не можешь доказать. Иногда задаешься целью донести правду до присяжных.
— Не могу поверить, что слышу такое. Значит, можно и подделать показания, чтобы добиться желаемого вердикта?
— Вы бы видели, на что идут барристеры от защиты. Они ведут игру, в которой нет ничего честного.
— Боже! Простите, если я чего-то не понимаю, но что, если обвиняемый действительно не виновен?
— Такого в общем-то не может быть, верно? Никто не станет вредничать и подправлять показания, если он стопроцентно не уверен.
Пол рассмеялся — и смеялся долго, нарочито громко.
— Но вы же всерьез не намекаете… я хочу сказать, в данном случае как раз это и произошло, верно? Обвинение снято как ненадежное и необоснованное?
Папа развел руками, слабо улыбнулся.
— Как я уже сказал: игры адвокатов.
Мы уехали сразу после ленча, атмосфера была безвозвратно испорчена. Пол молча вел машину до конца пути.
— Жопа.
— Что?
— Нет, извини, Зоэ, я знаю — он твой отец, но я в жизни не слышал такого набора чепухи.
— Он тебя заводил, Пол.
Пол покачал головой, резко свернул на Верхнюю улицу.
— Он всерьез так думает — до последнего слова.
— Он не такой, я считаю, что нет более порядочного человека. Он играл с тобой, а ты проглотил все до последней капли. Это было бы забавно, если б не было так печально.
— Вот как? И ты считаешь, было бы забавно ткнуть его носом в дерьмо?
— Конечно, нет. Я же пыталась изменить тему разговора. — Я взмахнула рукой. — «Минутку, Зоэ, мне это интересно». Клянусь, он не мог поверить своему везению.
Мы продолжали ехать — Пол пристально смотрел перед собой. Через милю или две он включил радио. Легонько пробежал по волнам — загрохотали усилители. Я спустилась в кресле, положила ноги на отделение для перчаток. Помнится, я подумала тогда, что ничего у нас не получится, — слишком он угрюмый, слишком напыщенный. Мне следовало с ним порвать, никакой трагедии не было бы: мы ведь жили вместе всего шесть или семь месяцев. Но я этого не сделала. На другой день все зарубцевалось, и мы продолжали жить каждый своей жизнью — врозь и вместе. Встречи с папой всегда вызывали у него раздражение, но мать Пола тоже не вызывала у меня любви. Так что получалось равноценно.
Я сворачиваю с дороги и останавливаюсь на большой, усыпанной гравием площадке, оркестр на стерео с грохотом заканчивает свой номер, а я смотрю на серый каменный дом впереди. В нем явно живут: черепица на крыше обновлена, на подоконниках стоят вазочки, на клумбах — свежевскопанная земля. Я достаю сумку с пола возле пассажирского кресла, нахожу в ней конверт с картонной прокладкой, в котором лежит рисунок. Холли нетерпеливо пищит, тянет ручонку, чтобы я дала ей то, что держу. Я утихомириваю ее с помощью губной помады и вытаскиваю рисунок.
Я уверена, что это тот самый коттедж, входная дверь там же — в углу, образованном двумя перпендикулярно стоящими друг к другу стенами. А вот кое-что другое изменилось. Исчез травянистый склон, но это легко объяснить: слой травы сняли, чтобы добраться до гравия, на котором стоит наша машина. Выше на холме — каменный гриб, все тот же, на котором сидел Снеговик. И окна в доме иначе расположены, чем на рисунке. Да и дом, что стоит передо мной, выглядит более длинным.
Я обхожу машину, чтобы вытащить Холли. Она умудрилась снять крышку с футляра, и любопытный указательный пальчик вымазан в жирной красной помаде. Я нахожу салфетку и устраняю безобразие — пятно на щеке, но, в общем, я застала дочку вовремя. Она возмущается, что у нее отбирают интересную игрушку, но как только я вынимаю ее из креслица, успокаивается, начинает оглядываться, интересоваться, куда я ее привезла.
Я не уверена, что это тот дом. На его стене нет названия, нет таблички со словами: «Коттедж на Верхушке Холма». Посадив к себе на бедро Холли, я стучу в дверь. Меня устроит просто подтверждение — я ничем не обеспокою обитателей. Но в доме царит тишина. И я внезапно осознаю, что нет других машин. Я уверена, что это тот дом. Хотя убедить себя в этом не могу. Но мне почему-то важно знать наверняка.
В пятидесяти ярдах вверх по холму пара каменных колонн образует въезд на большую ферму. Мы медленно продвигаемся — Холли решила, что сейчас самое время попрактиковаться в ходьбе. Я иду за ней, слегка нагнувшись, поддерживая ее под вытянутые ручки, принимая на себя ее вес в то время, как она перебирает ножками. Когда мы наконец добираемся до входа на большой двор, спина у меня уже разламывается. Холли останавливается, заинтересовавшись каким-то растением, выросшим между каменных плит. Я сгибаюсь вдвое, поддерживая ее под грудку, и тут слышу голос:
— Могу вам помочь?
В открытой двери стоит женщина. Сгорбленная, древняя старушка в переднике. Руки у нее в муке.
— Да, извините. Я пыталась найти ферму на Верхушке Холма.
— Это она и есть. А что вам угодно?
— Ничего. Так, причуда… Мой отец родился тут в коттедже. Мы приехали в эти места, и я подумала… Мне захотелось увидеть дом.
Она подходит к нам — на подбородке редкие седые волосинки, потрескавшаяся тусклая кожа.
— Ну, ферма — вот она, а коттедж будет ниже по холму. Как отца фамилия-то?
— Артур. Папу звали Рэй, его родители — Кейт и Филип.
— Артур? Ну-ка, ну-ка. — Она задумывается, качает головой: — Нет, не помню никаких Артуров.
— Это ведь было давно: он родился во время войны.
— Ну, в то время там жили Мэддоксы, это точно. Их сыновья — оба — уехали и больше не вернулись. По-моему, в коттедже никаких Артуров не было — во всяком случае, за мою жизнь.
Она трет руки, будто моет их, обвивая пальцами пальцы. Я поднимаю с земли Холли, прижимаю ее к груди.
— Но это ведь Верхушка Рюлиевого Холма и тут есть коттедж, перед которым есть гравийная площадка?
— Да. Только там были Мэддоксы. Они прожили там лет двадцать, потом Виккерсы — эти, кстати, жили там не так долго…
— Что ж, спасибо. Извините, что потревожила вас. Мы пойдем назад, вниз.
Она меня не слышала, продолжая перечислять фамилии. С губы ее свисает струйка слюны. Я пошла прочь.
— Спасибо, — повторила я уже громче.
Она смотрит на меня, на Холли, глаза ее сужаются:
— Нет, извините, милая, по-моему, тут никогда не было никаких Артуров.
Удовольствуемся этим. Придется удовольствоваться. Насколько я понимаю, эта женщина не в себе, она, наверное, говорила про Первую, а не про Вторую мировую войну. Я сижу на ступеньках, ведущих к коттеджу, держа на коленях Холли и глядя поверх крыши «пежо» на картину, расстилающуюся внизу. По обеим сторонам зеленых пастбищ в долине высятся срубленные деревья, по серой ленте дороги едет пара машин, похожих на спичечные коробки. А мы надо всем этим, оторванные от реального мира. Мне думается, такое место можно хранить в сердце. Сегодня на небе снова солнце, хоть оно и слабо светит сквозь рваные облака. Здесь, наверху, ветер мог бы дуть вовсю, однако штиль, царит спокойствие. Полнейший мир — лишь иногда вдруг запоет птица. Ну и конечно, страшно скучно Холли — слишком она мала, чтобы любоваться видом. Она пытается слезть с моих колен, жаждет идти дальше. А мне еще не хочется ставить на этом точку, я пытаюсь что-то почувствовать, какое-то единение с папой, с фотографией, которую он держал у себя на камине. Пытаюсь найти что-то, чтобы заинтересовать Холли, надеясь пробыть здесь достаточно долго, чтобы понять все значение этого места.
Я указываю на белые пятнышки на противоположном склоне:
— Смотри, душенька, овечки!
Холли перестает вырываться, неожиданно замирает, очевидно, пытаясь сопоставить то, что видит, с образом, сложившимся в ее мозгу на основе книжек, виденных дома. В эту минуту покоя, пока она перестает двигаться, а я тщетно пытаюсь найти что-то, чтобы ей показать, мне приходит в голову, что, будь здесь Пол, я бы попросила его сфотографировать нас. Холли была бы занята, наблюдая за тем, как папа скрывается за камерой, и ожидая, когда он снова появится с улыбкой и возгласом: «Бу-у-у!» А я вдруг осознаю, что никогда не задавалась вопросом: если папа и мама оба на фотографии, кто же запечатлел их на этом снимке, рисунок с которого лежит у меня в сумке?
ДикленТы проезжаешь по сердцевине поселка Рюли с его очарованием старины, развлечениями для туристов, приезжающих летом, с коттеджами, которые сдают на уик-энд, с зарытыми в землю телефонными проводами, связывающими людей с покинутыми конторами. За кабачком сворачиваешь направо, проезжаешь мимо кладбища, где триста четырнадцать поименованных могил, поднимаешься по склону на холм, к коттеджу, где родился твой отец. Ты движешься, как машина, как автомат, — мыслями ты далеко, воздушный след протянулся над землей и временем к затемненной проекционной где-то в тогдашнем Ноттингеме. С каждой минутой твое тело, заключенное в стальную раковину машины, продвигается еще на четверть мили к месту твоего назначения. Но мысли твои нацелены на одну точку в пространстве. В результате получается диковинное, эйнштейновское искажение времени. В мгновение ока пролетают целые дни.