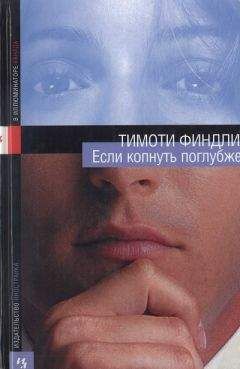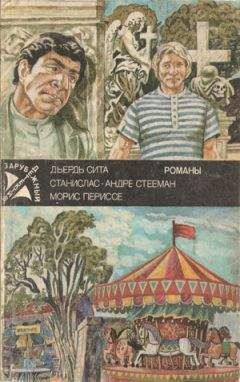Тимоти Уилльямз - Черный Август
На второй фотографии была изображена девочка-подросток, соединившая, словно в молитве, свои облаченные в перчатки руки. На ней было белое платье, какое надевают причастницы или подружки невесты. На голове – приколотый к вуали букетик незабудок. Она улыбалась, демонстрируя неровные зубы и неистощимый оптимизм.
Третьим снимком была фотография Розанны.
Розанна держала на руках ребенка. На снимке ей было лет тридцать; после более тщательного изучения фото Тротти показалось, что на попавшем в кадр портрете он узнал президента Гронки. Судя по всему, фотография была сделана в городской ратуше. Розанна, одетая в облегающий черный свитер поверх жесткого корсета а 1а Джина Лоллобриджида, весело улыбалась, а малыш в нагруднике с оборками, чепчике и вязаных башмачках зачарованно поднял глаза к потолку, разглядывая там нечто, не попавшее в кадр.
– Что ты на это скажешь? – Тротти повернулся, чтобы показать фотографию Пизанелли.
Пизанелли исчез.
Дзани по-прежнему сидел у двери, зажав ладони между коленями и задумчиво покуривая сигарету.
– Где Пизанелли?
– Секс или месть. Попомните мои слова, комиссар.
– Где вы достаете свои чертовы «Нацьонали», Дзани?
Старая дева – Секс и месть, – повторял про себя Тротти, нажимая кнопку звонка и открывая дверь со вставленным матовым стеклом.
– А, хомиссар! А где же ваш молодой приятель?
Синьора Боатти расстилала в столовой белую скатерть на стол орехового дерева. Окно было открыто, но опущенные деревянные жалюзи солнечный блеск внутрь комнаты не пропускали. В столовой было темно и прохладно – гораздо темнее и прохладнее, чем в соседнем с ней кабинете. В столовую перевезли и астматический кондиционер на колесах, и теперь он жужжал около буфета.
Кот тоже переместился на низкую кушетку.
Тротти спросил, где ванная, и синьора Боатти с сигаретой во рту проводила его до выложенной светлым кафелем комнаты размером со шкаф.
– Тесновато, хомиссар, сама знаю, но эти дома строились не для забот о бренном теле.
– Как и я, – улыбнулся Тротти.
Она указала на аккуратно развешенные полотенца:
– Если хотите в душ, горячая вода включается здесь.
– Мне нужна только холодная.
Она ушла, и Тротти, обнажившись по пояс, вымылся, а потом подставил под прохладную струю зеленоватой воды и голову. Освежившись, он открыл застекленный шкафчик поискать расческу. Глядя в зеркало, он принялся расчесывать свои редкие черные волосы. Гладко зачесанные назад, они старили Тротти. Из зеркала на него невесело смотрели глубоко ввалившиеся глаза. «Тебе нужно отдохнуть, Пьеро. Выкинь Розанну из головы. Пора проведать Пьоппи и познакомиться с внуком». Сняв с пластмассовой расчески волосы, он положил ее обратно в шкафчик. На других полках лежали разные туалетные принадлежности – детская зубная паста, тальк и пара банок с какими-то таблетками; пузырьков с одеколоном или духами Тротти не заметил. От шкафчика пахло сладковатым сухим мелом.
Снотворные таблетки?
– Хомиссар, не откажетесь теперь от аперитива? – спросила синьора Боатти из кухни.
Ее тосканский акцент вызвал у него улыбку.
– Минеральной воды, синьора.
Он вернулся в столовую, опустился на стул и облокотился на стол орехового дерева. На столе стояли ваза с фруктами и квадратная плетенка со свежим хлебом и валялось несколько пакетов с гриссини.[28] Две бутылки минеральной воды, две тарелки с ломтиками салями и вазочка с маслинами.
– Ваш муж еще не вернулся?
Синьора Боатти вышла из кухни, вытирая руки о тряпку.
Теперь Тротти стало ясно, что она значительно старше Боатти – где-нибудь за сорок. Худощавая, угловатая.
– С газом? – спросила она и, не дожидаясь ответа, откупорила бутылку минеральной.
– Тосканская? – с улыбкой поинтересовался Тротти, когда она наполняла водой его стакан.
– Французская – продавали по дешевке в супермаркете.
Чудеса Общего рынка. Она закрыла горлышко бутылки пластмассовой чашкой, налила себе на два пальца «Уильяма Лоусона» и выпила, не добавив ни воды, ни льда.
– Хорошее виски – одна из моих самых невинных слабостей.
– Вы хорошо знали Розанну, синьора?
Женщина опустилась на диван в нескольких футах от Тротти. В полумраке лицо ее различалось с трудом. Солнечный свет из кухни падал на ее колени и руку со стаканом янтарной жидкости. Другой рукой она ласкала кота. На ней была тонкая вязаная рубашка.
– Я занимаюсь переводами, – сказала она и зажгла сигарету. – Для нескольких издательств в Милане перевожу книги с китайского. А теперь и немного с японского.
– Вы не ответили на мой вопрос.
Синьора Боатти усмехнулась.
– Я преподавала восточные языки в университете, а потом мою ставку сократили. Наверное, понадобились деньги на чтонибудь более нужное, вроде ядерной физики. Или международных отношений. Поэтому теперь я работаю дома. Мне предлагали работу в университете в Тренто, но это означало бы по три дня в неделю не видеть детей…
– Сейчас дети отдыхают?
– Собираюсь к ним сегодня вечером. У моей семьи небольшое поместье в Виареджо.
– Виареджо?
– Я из Вольтерры. – Она улыбнулась, и тени на ее лице пришли в движение. – Мой отец занимается там производством алебастра.
– И поэтому вы посвятили себя китайскому языку?
– По-вашему, лучше бы мне работать в карьере?
На губах у Тротти лопались пузырьки газа, в ноздрях щипало.
– Джордже сказал, что Розанна жива, хомиссар.
– Итак, вместо того, чтобы отдыхать в Тренто, вы предпочитаете сидеть в городе?
– Розанна жива?
– Искренне на то надеюсь.
Синьора Боатти посмотрела на Тротти, ее темные глаза блестели.
– Хомиссар, я вышла замуж очень поздно. Я уже и не рассчитывала тогда выйти замуж. Если первого ребенка женщина рожает в тридцать пять, материнство для нее нечто совершенно особенное. – Она помолчала. – У меня двое прелестных детей. Главная радость в моей жизни. И ради них я пойду на все. – Она пожала плечами и затянулась сигаретой. – Когда мы встретились с Джордже, я и не подозревала, что способна испытывать к детям нечто подобное. Я продукт 60-х годов, и в то время голова у меня была забита всякими революционными бреднями. Я и маоистка, я и структу радистка. И, конечно же, феминистка. Лифчики я не сжигала, но носила брюки клеш, свитера в обтяжку и туфли на платформе. И в свое время даже покидалась бутылками с зажигательной смесью. – Она рассмеялась. – То, как я живу теперь… Тогда я даже и не мечтала, что смогу когда-нибудь быть счастливой. Но сейчас я счастлива. Счастлива и до ужаса буржуазна. Счастлива, потому что у меня есть собственная семья. Джордже – хороший отец, и, хотя постоянного заработка у него нет, с голоду мы не помираем. – Она глубоко затянулась и выпустила дым к потолку. – Розанна действительно жива?
– Ваш отец тоже не бедствует?
– Мы предпочитаем обходиться своими силами. Правда, папа обещает оплатить учебу девочек.
– У меня тоже дочь, – сказал Тротти и улыбнулся.
– Почему вы прямо не отвечаете на мой вопрос, жива ли Розанна?
– Думаю, жива.
– Думаете?
– Есть все основания полагать, что Розанна Беллони жива.
Синьора Боатти вздохнула:
– Слава Богу!
– Похоже, слишком большого облегчения вы от этого не испытываете.
– Я испытываю облегчение за себя.
– Что вы имеете в виду?
– Если хотите еще воды, хомиссар, наливайте сами.
– Розанна вам не нравится?
– Чье тело обнаружил мой муж?
– По всей вероятности, убита сестра Розанны – Мария-Кристина.
Синьора Боатти откинулась назад и положила голову на спинку дивана. Несколько минут она сидела молча, выпуская в воздух струи дыма. Когда она затягивалась, в полумраке комнаты начинал рдеть кончик ее сигареты. Мало-помалу прохладный воздух наполнялся запахом табачного дыма и жарившегося на кухне сфриццоли.
У нее были стройные загорелые ноги. Под левым коленом – длинный шрам. Она была босая; у ее ног лежали две суконные тряпицы, которые и служили ей домашними туфлями для передвижения по мраморному полу квартиры.
Тротти разорвал пакет с гриссини и надкусил одну из палочек. Уличного шума в этой части города почти не было. Откуда-то издалека, со стороны Борго-Дженовезе, невнятно доносился звон церковного колокола.
Синьора Боатти подалась вперед и стряхнула пепел с сигареты в пепельницу.
– Я выросла в очень богатой семье. Очень богатая и не очень привлекательная девочка, увлеченная иностранными языками. Прилежно училась в классическом лицее – в классе я всегда была первой. Завоевывала все награды – и не покорила ни одного мальчика. – Она пожала плечами. – Но я особенно и не переживала. Мне и вправду не слишком нравилось, когда во время танца парень начинал давать волю рукам. Не то чтобы это вызывало во мне отвращение. Просто все это казалось мне жутко глупым. А в семнадцать лет я влюбилась. В лицее, в учителя греческого. Я его боготворила. Но он был не Богом, а женатым мужчиной из Феррары.