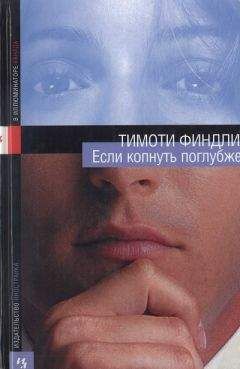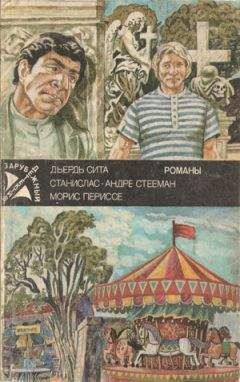Тимоти Уилльямз - Черный Август
– Феррара, – повторил Тротти.
Синьора Боатти улыбнулась своим воспоминаниям.
– Между нами ничего – абсолютно ничего – не было. Как-то раз в классе он случайно дотронулся рукой до моей щеки. И еще раз в конце урока я придумала какой-то идиотский вопрос об Аристофане или о ком-то там еще, и когда мы остались в классе одни, я прикоснулась к его руке. Ничего против он не имел. Его звали Марио Сиккарди, и я любила воображать, как он несчастлив с женой. Между нами абсолютно ничего не было, но чтобы забыть его, мне понадобилось десять с лишним лет.
– Тогда-то вы и встретились с Джордже?
В пепельнице тлела ее сигарета.
– Джордже моложе меня на восемь лет. Когда мы познакомились, я преподавала в университете. К тому времени девственницей я уже не была, но не была и женщиной без комплексов. Феминисткой, конечно, была, но полностью раскрепощенной – нет. И мужчинами никогда чересчур не интересовалась. А потом, в один прекрасный день…
Тротти услышал, как она усмехнулась.
– В один прекрасный день я подслушала случайно, как кто-то из сотрудников Библиотеки восточной литературы назвал меня старой девой. Старая дева? – Она покачала головой. – Мне был тридцать один год, и я знала, что красотой не блистаю. Но почему старая дева? Навсегда остаться без мужа, без детей… Прекрасно помню, как я пришла в тот вечер домой – я снимала тогда маленькую квартирку за ратушей – и подошла к зеркалу. Я стояла голой перед зеркалом и смотрела на свои бедра и груди, которые начали уже отвисать.
– И?
– А как вы думаете? – Она поглядела на Тротти, и улыбка обнажила ее блестящие зубы. – Я разрыдалась.
Снизу донесся звук автомобильного мотора.
– Через несколько недель я встретила Джордже. Он посещал мой курс китайского языка для начинающих, а спустя год мы поженились. Только через четыре года – после двух выкидышей – я родила первого ребенка. Джордже так и не выучил ни одного слова по-китайски. А Розанна… – Она замолчала.
– И что – Розанна?
– Вы вполне уверены, что она жива, хомиссар?
– Мы не знаем, где она, но думать, что она мертва, у нас тоже нет никаких оснований.
– Я всегда очень завидовала Розанне. Очень завидовала.
– У Розанны никогда не было детей.
– И тем не менее я ей завидовала.
– Но почему? – Тротти недоуменно поднял плечи. – Розанна гораздо старше вас. И, простите, едва ли может быть вам соперницей.
– Она была другом Джордже, другом его семьи. Поэтому мы и живем в этой квартире. Розанна была… Розанна – прекрасная женщина, я знаю. Добрая и великодушная.
– Зачем же тогда завидовать, синьора?
– Зачем? – Она усмехнулась и пренебрежительно махнула рукой.
– Чему может завидовать молодая женщина вроде вас?
– У женщин тонкая интуиция. И они видят разные мелочи – и должным образом воспринимают их.
– Какие мелочи?
Синьора Боатти зажгла очередную сигарету. Рука ее слегка дрожала.
– Видите ли…
– Да?
Она подняла глаза и посмотрела на Тротти.
– Иногда мне кажется, что Джордже отдавал предпочтение Розанне. Между ними всегда что-то было – какая-то близость. – Она покачала головой. – Джордже говорит, что она ему как мать, но тут явно что-то большее. Я не знаю, что там между ними, но для меня это совершенно очевидно.
Тротти услышал, как по лестнице поднимается Боатти.
– Я очень ревную. Вот сидит перед вами малопривлекательная женщина средних лет, курит как сапожник и между тем способна ужасно ревновать. Слепо ревновать, хомиссар Тротти. Я очень люблю своего мужа. Очень. Вам он может показаться далеко не самым прекрасным мужчиной на свете, но вы его не знаете. Для меня он самый прекрасный. Я люблю его. Как последняя дура в мелодраме, всей душой и всем сердцем я люблю своего мужа. – Извиняющаяся улыбка. – Мне кажется, что иногда я бы убила вашу Розанну Беллони. Тупая, слепая ревность женщины, которая любит своего мужчину и которая не желает его больше ни с кем делить. Джордже мой… и только мой.
Прожиточный минимум– Никогда не курил «Нацьонали», когда был студентом. – Боатти казался гораздо спокойнее, чем до отлучки. Потеть он тоже перестал. – Были не по карману.
– Я и не знал, что вы курите.
(Работал телевизор, но звук они приглушили. На экране, беззвучно открывая рот, Лилли Грубер сообщала последние новости. Кинохроника с Ближнего Востока, очередные жертвы в Калабрии, события на бирже в Милане, возвращение Марадоны из Аргентины с отдыха, бег Антибо на десять тысяч метров).
– Да я и не курю, – сказал Джордже Боатти. – И жену хочу отучить. Мне удалось отговорить ее от курения на время обеих ее беременностей.
Синьора Боатти хлопотала на кухне, складывая тарелки в мойку и тихо напевая себе под нос: «Любимый, дай мне тот платочек».
– Но после рождения девочек она закурила пуще прежнего. Сейчас вернулась к своей норме – полторы пачки в день.
– «Нацьонали»?
– Почему «Нацьонали»? – Боатти рассмеялся. – «Мальборо». «Нацьонали» нынче курят только люди привилегированные вроде вас.
– Я не курю уже много лет.
– Поэтому вы и сосете столько леденцов, комиссар?
– За последние десять лет я выкурил всего три сигареты. – Как бы в подтверждение тому Тротти достал из кармана леденец и сунул его в рот. – Мне нужен сахар.
– Похоже, вы очень понравились моей жене.
– Ну, это только женская интуиция. Ей не доводилось со мной работать. И она не собирается писать книгу о полиции.
– В начале 70-х мы, студенты, курили «Альфу», «Сакс» и «Калипсо». Смесь соломы с навозом. Но никотина в них было порядочно.
Тротти кивнул.
– Потом правительство увязало цену этих «Нацьонали» без фильтра – вместе с хлебом, кофе и другими продуктами первой необходимости – со стоимостью прожиточного минимума. – Боатти широко улыбнулся. – И в то время как цены на все другие товары летели вверх, правительство, чтобы сбить показатели инфляции, оставило «Нацьонали» в покое. Лет пятнадцать уже пачка «Нацьонали» стоит меньше 300 лир – меньше, чем телефонный звонок. Ничего удивительного, что из продажи «Нацьонали» пропали. Слишком они дешевые. В табачных магазинах вам их не найти. Самые дешевые из остальных сигарет – «Эспортацьоне». А они стоят уже 1400 лир.
– Да, чтобы достать сейчас «Нацьонали», нужно иметь друзей в государственной табачной промышленности или работать в полиции нравов. – Тротти подлил себе минеральной воды. Ему захотелось спать. – Слава Богу, я могу обходиться леденцами.
– От леденцов вы мягче не становитесь, комиссар.
– Слишком долго я живу в этой стране, чтобы ожесточиться, – сказал Тротти и прибавил: – Очень обидно за вашу книгу, Боатти.
– Значит, стали от них циничнее.
– Не будь ты циничным, тебе и голову из воды не высунуть. Только не в Италии, где за всем стоят интересы политики и власти. Даже за ценой на сигареты. – Тротти помолчал. – Что вы решили делать со своей книгой?
– С книгой?
– Если Розанна жива, необходимость писать книгу о полиции вроде бы отпадает. Немного обидно, конечно.
– Я буду счастлив видеть целой и невредимой Розанну. – Обезоруживающая улыбка. – И ничто не остановит меня написать книгу о полицейском – об удачливом комиссаре, завершающем свою блестящую многолетнюю карьеру.
– Открытки или чего-нибудь еще вы от нее не получали, Боатти?
– Книгу о человеке и о провинциальном городе.
– Розанна никак с вами не связывалась?
Боатти перестал улыбаться.
– Я вам уже говорил, что, уезжая на праздники, она писала редко.
– И не звонила?
– Нет.
– Тогда почему она написала синьоре Изелле?
– Они подруги. – Боатти посмотрел на Тротти. – Вы по-прежнему думаете, что она хотела обеспечить себе алиби?
– Открытку – и дату ее отправления – можно использовать как свидетельство того, что во время смерти сестры в городе ее не было. Очень удобно.
– Вы и вправду думаете, что Розанна способна убить сестру? – Боатти покачал головой. – Вы и впрямь слишком циничны. А может, вы просто ее плохо знаете.
– Вы сами же говорили, что Марию-Кристину она ненавидела.
– Но не до такой степени, чтобы проламывать сестре череп.
– Цинизм – это та цена, которой я вынужден расплачиваться за свою работу. Всегда предполагаю в людях самое худшее – до тех пор, пока не выясняется обратное. – Тротти фыркнул. – Но такое бывает редко.
– Благодарю за комплимент.
Тротти опустил голову.
– Вы же знали Розанну, комиссар.
– Я вообще не уверен в том, что человека можно постичь до конца. Люди зашифрованы. Иной человек – айсберг, и ты видишь только его верхушку. Насчет всего остального можно лишь строить догадки. Мы одиноки, Боатти. Все мы одиноки. Вы, похоже, этого не понимаете. Значит, вы еще слишком молоды.
– Вы думаете, что, если я моложе вас, страдание мне неведомо?
– Одинокими мы рождаемся, Боатти, и одинокими умираем. И всю жизнь думаем… надеемся, что можно завязать какие-то отношения. Прочные отношения. Но даже самые прочные отношения преходящи. Одна лишь разлука – благо.