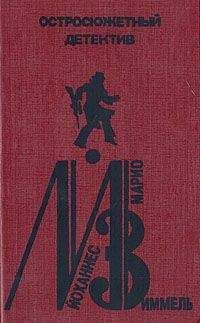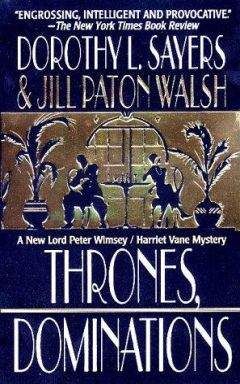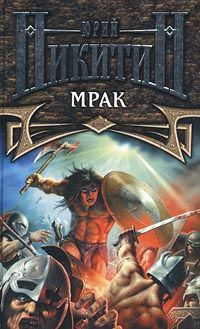Йоханнес Зиммель - Ответ знает только ветер
Против нашего окна, недалеко от моря и пляжей, какой-то художник развесил свои картины на веревочке, привязанной к двум пальмам. Картинки у него были яркие, жизнерадостные и изображали Круазет, Старую Гавань и пейзажи вокруг. Сам художник, человек очень молодой, сидел прямо на земле. Люди шли мимо, не обращая никакого внимания на его картины.
— Он сидит тут каждый день, — сказала Анжела. — Очень способный юноша. Но ему не везет.
— В отличие от вас, — вставил я.
— О да, — сразу согласилась она и легонько постучала по дереву. — Мне определенно везет. А вам, мсье Лукас?
И я произнес слова, которых не говорил уже много лет:
— Мне необычайно везет. Я познакомился с вами, мадам. Вы рядом. Я могу смотреть на вас. Вы ради меня поехали в город.
— Чушь. У меня самой в городе есть дела.
— Ах, вот оно что, — протянул я.
Она взглянула на меня и улыбнулась своей обычной улыбкой. В ее глазах зажглись крошечные золотые точечки, а у глаз на загорелой коже появились лучики морщинок. В ее смеющихся глазах притаилась печаль, легкая, как тень или облачко.
— Вы многого в жизни боитесь, мсье? — спросила Анжела.
— Что вы имеете в виду?
— Вы меня прекрасно поняли. Не боитесь ли вы людей и событий. Так боитесь или нет?
— Нет, — солгал я.
— А я боюсь, — сказала Анжела. — Я часто боюсь. Что не смогу больше работать кистью или что потеряю заказчиков и останусь без денег…
— А также одиночества…
— Нет, одиночества я не боюсь, — возразила она, но ее улыбка как-то застыла на лице. — Я люблю быть одна.
— Ну, тогда боитесь, что опять придется спасаться бегством.
— А вы, значит, не забыли про это? — Она опять широко улыбнулась.
— Не забыл, — сказал я. — А почему…
— Взгляните туда, — быстро проговорила она, — вон идет один из моих старинных друзей, — она указала подбородком. К ресторанчику двигался худощавый мужчина лет пятидесяти, одетый с подчеркнутой элегантностью. В руках он нес большую сумку. Человек этот казался погруженным в свои мысли и не замечающим ничего вокруг. — Его зовут Фернан. Фамилии его я не знаю, он изучал архитектуру. И был очень одарен. Потом его мать попала в аварию и ее парализовало. Поперечный паралич. Неизлечимо и безнадежно. Правда, случилось все это лет двадцать-двадцать пять назад, задолго до моего переезда в Канны. Фернан оставил учебу. Он любит свою матушку. Чтобы иметь возможность платить за ее пребывание в приличном санатории, он должен был начать немедленно зарабатывать деньги. С тех пор Фернан продает лотерейные билеты.
— Какие билеты?
— Лотерейные. Во Франции проводятся все возможные и невозможные виды лотерей — числовые, большие и малые скачки, приз нации…
Кельнер принес наше ассорти из раков. Раки были огромные и такие вкусные, каких я еще никогда не ел.
— Нравится?
Я кивнул.
— Я рада, — сказала Анжела. — Мне так хочется, чтобы вам все здесь понравилось и чтобы вам было здесь приятно.
Я ответил:
— Еще никогда в жизни мне не было так приятно.
— Мсье Лукас! — сказала Анжела.
— Да нет, это чистая правда!
— Не верю. — Она серьезно взглянула на меня. — Часто ли женщины говорили вам, что вы очаровательны?
— Да, часто. Но вы же знаете, что за этим стоит.
— Не знаю. Что же?
— Ну, некоторые женщины говорили это просто из любезности. Или желая чего-то от меня добиться. Или же потому, что я был с ними мил. Вот и им хотелось сказать мне что-то приятное. Но эти слова ровно ничего не значили.
— Вот, значит, как это было.
— Да, — кивнул я. — Так оно и было.
— Но со мной все по-другому, — вставила Анжела. — Я ничего от вас не хочу. И хочу быть не просто любезной. И мои слова имеют определенный смысл. Я хочу, чтобы вы это знали, отнеслись к моим словам вполне серьезно и в самом деле в это поверили, потому что это правда: вы очаровательны. Необычайно очаровательны. — Она приподняла свой бокал шампанского, я поднял свой. — Лехаим! — сказала Анжела.
— Что это значит?
— Будем здоровы. Это по-еврейски. У меня много друзей-евреев. Итак?
— Лехаим! — повторил за ней я. Между тем худощавый бледный мужчина с сумкой вошел в зал ресторанчика. Заметив Анжелу, помахавшую ему рукой, он сразу заулыбался, от чего выражение отрешенности исчезло с его лица. Фернан прямо от дверей направился к нашему столику. Я увидел, что лоб у него был покрыт капельками пота.
Мы купили у него лотерейные билеты на какие-то большие скачки в Париже, намеченные на завтра, и полпачки билетов на числовую лотерею. Анжела сама заплатила за купленные ею билеты, просто отстранила мою руку.
— Ваши билеты выиграли хоть раз? — спросил я Фернана.
— Даже трижды, мсье, — ответил он. — Один раз — триста миллионов франков, в другой раз — четыреста пятьдесят миллионов франков, и в третий — сто миллионов.
— Что?!?
— Он имеет в виду старые франки, — заметила Анжела. — Ничего не поделаешь — столько лет прошло, а здесь люди по-прежнему ведут счет в старых франках.
— Ах, вот оно что! Сколько лет вы продаете лотерейные билеты? — спросил я Фернана.
— Столько, сколько вообще работаю.
— А сколько лет вы работаете?
— Двадцать три года. Но, несмотря на все, мадам всегда покупает у меня билеты, всякий раз, как меня видит.
— Я жажду больших барышей, — обронила Анжела и улыбнулась нам обоим; в ее глазах опять появились пляшущие золотые точечки. — И страшно люблю деньги. В один прекрасный день я выиграю миллион новых франков, и мы с вами напьемся, верно, Фернан?
— Да, мадам.
— Безумно, — сказала Анжела.
— Не понял?
— Ну, безумно напьемся в тот день.
— А, ну да, конечно, напьемся до полного безумия, — закивал Фернан.
— Кстати, — вмешался я. — Вы, должно быть, умираете от жажды, мсье. Что бы хотелось вам выпить?
— Но, мсье…
— Можете спокойно соглашаться, — сказала Анжела. — Мы ваши друзья. Итак — бокал шампанского у стойки?
— Большое спасибо, господа, — сказал Фернан и направился к стойке бара в глубине зала, возле которой американцы, англичане и немцы все еще ждали, когда освободится столик. Он показал бармену на нас и получил большой бокал шампанского.
Фернан приподнял свой бокал и крикнул нам через весь зал, но никто даже не повернул головы в его сторону:
— За ваше счастье!
— Лехаим! — в ответ крикнула ему Анжела, и мы приподняли наши бокалы.
— Тоже еврей? — спросил я.
— Лехаим! — откликнулся Фернан.
— Да, тоже еврей. Его семья когда-то была очень состоятельной. Но потом отец умер. И Фернан с матерью впали в нищету. Знали ли вы лично, что это значит — впасть в нищету?
— Да, — ответил я. — Я был гол как сокол.
Кельнеры убрали грязные тарелки и подали наши бифштексы.
— Я тоже когда-то жила без гроша в кармане, — сказала Анжела, когда мы принялись за еду. — Конечно, в самом начале. Когда училась живописи в Париже.
— А ваши родители…
— Они умерли, — быстро пробормотала она. — Да, в те годы я была очень бедна. Но очень быстро я стала получать заказы и деньги, очень много денег. Вам нравится мясо? Не прожаренное до конца? Вы любите такое? — Я кивнул. — Но потом я сделала ошибку. Я доверилась одному человеку, который вознамерился использовать мои деньги для спекуляций на бирже.
— Вы доверяли этому человеку?
— Я его любила. Вы знаете, как в таких случаях легко поддаешься уговорам. Он взял деньги и исчез, а я осталась практически без гроша в кармане. Но теперь у меня опять все в порядке. Однако я стала намного осторожнее. Я ведь уже сказала вам, что вкладываю все заработанное мной в драгоценности. Я стала бережливой и недоверчивой. И уже никогда не доверю своих денег мужчине.
Для меня было наслаждением смотреть, с каким аппетитом она ела.
— Но если появится мужчина, которого вы полюбите, вы конечно опять это сделаете, — сказал я.
— Ну, если только полюблю, — спокойно сказала Анжела. — С этим мне не везет. Да и что такое любовь? Нечто эфемерное. Она проходит, и либо мужчина уходит, бросая женщину, либо она уходит, оставляя его. Конечно, время от времени нормальные люди ощущают нужду в существе другого пола. Но разве это можно назвать любовью?
— Нет, — сразу согласился я.
— Вот видите, — сказала Анжела. — Лехаим!
— Лехаим, — повторил за ней я.
22
Когда кельнер начав печь блины прямо возле нашего столика, — зажег спиртовку, и пламя высоко взметнулось, — Анжела рассмеялась как ребенок.
— Я каждый раз заново радуюсь, — призналась она.
— Вы любите смотреть на огонь?
— Очень, — ответила она. — И уже много лет пытаюсь писать огонь. Но ничего не выходит.
В зал вошла босоногая и оборванная девочка. В руках она держала корзинку, в которой лежало пять или шесть матерчатых зверюшек.