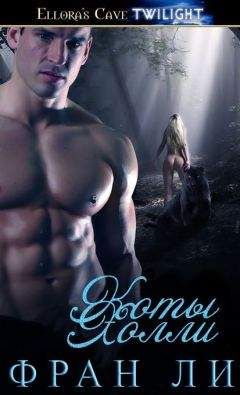Фил Уитейкер - Портрет убийцы
Мэгги Мортенсен — не такая уж хорошая свидетельница. Она же видела его мельком — он смотрел в землю. Я всегда начинаю с волос: «Каштановые с рыжеватым отливом. Разделенные пробором». Я нарисовал. «Да, вот такие». — «Длинные? Закрывают уши?» — «Нет, я видела его уши, волосы были короче». — «О'кей, а как насчет глаз, видели вы его глаза?» — «Нет, извините, он смотрел вниз».
Выуживаешь из свидетеля все, что можешь. Лицо никогда не имеет точного сходства. Люди думают, что это так, думают, что я запечатлеваю, какое оно в жизни. Видя сделанный художником набросок, они считают, что человек и на самом деле так выглядит. А это всего лишь представление о нем. Нечто способное всколыхнуть память, пробудить совесть, заронить подозрения. Если набросок похож на нужного человека, это может оказаться последней частицей чьей-то головоломки, подтверждением того, чего кому-то не хватало. А этим кем-то может быть жена, любовница, мать, коллега, друг. Кто-то, кто заметил необъяснимо появившуюся кровь, необычное поведение, странные фразы. Для этого не требуется точного сходства.
Я восполнил недостающие детали. Ну и что, если глаза не совсем такие? Ну и что, если с того места, где на него смотрела Мэгги Мортенсен, размеры носа и подбородка выглядели иначе? Такие наброски я ведь делал и раньше — не в такой мере предположительные, но делал же. Надо только, чтобы лицо получилось.
Людям невыносимо молчать с незнакомцами. Даже если я занят работой, они считают необходимым заполнять пустоту. Я заканчивал набросок, а Мэгги Мортенсен говорила. Она сама не понимает, что заставило ее смотреть на эту пару, почему этот мужчина и эта девочка выглядели несовместимо. Это ужасно — люди так всерьез воспринимают ее, тогда как она полна сомнений. На нее возлагают ответственность, ждут от нее помощи, ждут, чтобы она что-то выявила. Не надо было ей звонить по телефону. Закончив набросок, я повернул блокнот к ней и показал, что я нарисовал. Я не обращаю внимания на то, что говорят мне люди. Наблюдаю, как на коже у них проступает пот, расширяются глаза, вслушиваюсь в их дыхание. Она была совершенно спокойна.
— Да, — сказала она, — это очень похоже на него.
Твой отец снова стал самим собой. Теперь у него кое-что появилось — свидетельница, похожий на преступника портрет, — и его вера в успех восстановилась. Я показал ему набросок, прежде чем передать его в отдел вещественных доказательств. Как всегда, Рэй прежде всего проверил его на узнаваемость — закоренелые преступники были хорошо известны. Хотя по чертам лица нельзя было узнать фамилию, это не огорчало твоего отца. Он поговорил с редактором «Ивнинг пост» и получил обещание, что портрет будет напечатан на следующий день. Рэй был уверен в успехе.
— Свидетельница оказалась не слишком хорошей, Рэй, — предупредил я его. — Собственно, она толком его не разглядела. Так что пришлось импровизировать.
Он рассмеялся и снова бросил взгляд на лицо, тупо смотревшее на него со стола.
— Ты иногда слишком суров к себе, Диклен. Подожди до завтра. Кружка пива говорит, что нам позвонят еще до закрытия кабачка.
Я кончил работать на полицию приблизительно к тому времени, когда твой отец забрал тебя в Лондон. К тому времени у меня было уже достаточно собственных работ, и я мог на них существовать. А потом мне больше некого было и содержать. Правда, я по-прежнему искал возможности получать регулярное жалованье — никогда ведь не знаешь, как долго такое положение продлится, хоть я и достиг небольшого успеха. Я так и не вернулся в школу искусств, хотя память о моем романе, о беременности Изабеллы и нашем незаконнорожденном ребенке уже стерлась. Наверное, мне следовало вернуться. Шло время, менялись представления о морали. И настанет пора, когда наш роман с Изабеллой не привлек бы такого внимания. Мир будут волновать совсем другие вещи, вызывать осуждение совсем другие проступки. О прошлом нельзя судить по тому, как мы живем сейчас.
Я нашел другие места для преподавания. Рисование с натуры очень популярно в вечерних классах и курсах для взрослых. Я занимаюсь этим до сегодняшнего дня, и это входит в число тех занятий, которые держат меня на плаву, хотя то, что я получаю, не сравнить с тем, сколько я зарабатываю на больших процессах, о которых шумит пресса. Мои студенты — люди совсем другого уровня в сравнении с теми, что учились в художественной школе: многие с трудом умеют рисовать; их привлекает перспектива увидеть обнаженную модель в большей мере, чем тяга к искусству. Даже тем, кто владеет техникой, редко удается воспроизвести на бумаге лицо и тело, стоящее перед их глазами.
Особенно трудно даются очертания. Это ставит многих в тупик. Чем больше ты изучаешь человека, чем точнее пытаешься передать соотношение между изгибом щеки, линией челюсти, скосом шеи, тем больше ты обречен на неудачу. Ты просто не можешь это воспроизвести — слишком сглажены должны быть углы. Я учу своих студентов смотреть поверх объекта, сосредотачиваться на отражении контуров модели на задней стене.
Просто поразительно, как все выглядит иначе. Внезапно ты имеешь дело с треугольниками, ромбами, полукружиями, с другими, более сложными фигурами — да, но по-прежнему с чем-то прочным, с тем, что видит глаз. Я даже осмелюсь сказать, что ключом в рисовании с натуры является умение смотреть не только на субъект, который ты решил изобразить.
Уже поздно. Извини, что я заставил тебя шагать милю за милей, преследуя быстро пролетающие моменты и мысленные образы. Ты, должно быть, устала. Ты просто не в состоянии совершить все в один день — я думал, что сможешь, но я был не прав. И не твоя в том вина — ты сильная, волевая, ты вынесла все, что я на тебя взвалил. Но тебе придется вернуться завтра, если ты сумеешь найти место, где остановиться на ночь. Тебе осталось съездить в Дербишир, посмотреть на пышный Четсуорт-Хаус, добраться до Верхушки Рюлиевого Холма, вернуться в Мэпперли-Парк. Этого требуют воспоминания и ассоциации. Они появляются по собственной прихоти, прорывая преграды, врываются в мозг, пустые и переменчивые, и тем не менее если уж придут, от них не сразу избавишься. Не волнуйся: завтра ты можешь взять такси или поехать на своей машине, если она с тобой. Ты полетаешь с одного места на другое, задерживаясь лишь настолько, сколько потребует разгадка того, что ты видишь.
А сегодня вечером поставим на этом точку. Заставь свои мускулы пройти еще немного — до конца Дороги Брек-Хилл, мимо рядов анонимных двухэтажек на четыре квартиры, в одной из которых — Господи благослови! — и жила Мэгги Мортенсен много лет назад. Дойдя до перекрестка, ты окажешься на Долинной дороге, и зеленый с кремовым автобус № 50 провезет тебя несколько миль до центра города. Выйдя из вокзала на Королевской улице, ты сразу узнаешь Рыночную площадь, откуда начинала свое путешествие. Легче всего найти пристанище возле вокзала. Перейди через площадь в южном направлении. Это будет, наверное, в шесть часов, в половине шестого. Основная масса рабочих уже разбрелась; покупатели, заполнявшие эти улицы, уже благополучно сидят дома. Вокруг совсем немного людей, и те, кто еще не ушел с улиц, спешат их покинуть. Лишь через час или два новая волна принесет пьяниц и посетителей клубов в поисках волнительной опасности, какую может принести с собой ночь в городе.
Но Рыночная площадь не совсем пуста. На углу Аллеи Монахов, Рыночной улицы, Королевской улицы, Биржевого переулка через каждые несколько сотен ярдов стоит металлическая коробка, и на ней под сеткой из металлической проволоки наклеен плакатик с основной новостью дня. К этому времени кипы газет уже разойдутся, и тем не менее на каждом стенде еще будет лежать кипа, тяжелые камни будут положены поверх стопок «Ивнинг пост», спасая газеты от внезапных порывов ветра. Последние выпуски городских газет в больших количествах сходят с прессов и хотя редко полностью распродаются, тем не менее мужчины в перчатках без пальцев снимают со станка еще несколько экземпляров.
Остановись. Послушай. Их крики эхом долетят до тебя со все более удаленных расстояний по периметру площади: «Ивн пост! Ивн пост!», — словно крики птиц, предупреждающие другие существа о появлении хищников. «Ивн пост! Ивн пост!» Все они кричат по-разному — каждый продавец за десятилетия отточил по-своему произношение слов. Это их труд, смысл их существования — их навязчивые крики возвещали не одному поколению о случившемся.
Заставь воображение сделать еще одно усилие, и я обещаю, что дам тебе передохнуть. Представь себе Рыночную площадь на другой день после того, как я со слов Мэгги Мортенсен сделал, следуя нескольким запомнившимся ей деталям, набросок портрета. В тот вечер на газетных стендах нет плакатиков с последними известиями, вместо этого — портрет, то, как я, художник, видел мужчину с ребенком. «Ивн пост! Ивн пост!» Он смотрит из-за блестящего сплетения проволочной сетки, уставясь на ножницы ног прохожих, — смотрит, не мигая, не встречаясь ни с кем взглядом. И так смазаны его черты, что никто из тысяч, взглянувших на него, ни за что не узнает этого человека. В то же время он кажется знакомым, и это вызывает тревогу. Ни один человек, видевший его, не может избежать неприятного чувства, что должен его знать. По мере того как конец дня переходит в вечер, крики торговцев газет один за другим умолкают — сначала на Королевской улице, потом в Биржевом переулке, потом на Рыночной улице, пока безбрежность площади не нарушает всего один крик, исходящий из Аллеи Монахов: «Ивн пост! Ивн пост!» Затем умолкает и он. Всего седьмой раз за всю историю города — считая и День победы — городские вести были распроданы.