Сергей Дигол - Утро звездочета
— В половине восьмого на Патриарших прудах, — услышал я ее в трубке, уже во второй раз, когда перезвонил, как и договорились, спустя полчаса. — У памятника Ивану Андреевичу Крылову. Если, просил передать Олег Павлович, вас это устроит.
— Передайте Олегу Павловичу, что с радостью устроит, — ответил я, правда, уже без прежнего восторга.
Рассматривая то лицо, то спину памятника, я теряюсь, кому возносить похвалу: пруду, выдыхающему едва ощутимую, но все же прохладу, или Табакову, избравшему для нашего рандеву это мистическое место, возможно, единственное место в Москве, где в этот сплющивающий тебя зноем вечер еще чувствуешь себя человеком.
Между тем дышать мне становится все тяжелее. Я вдруг ощущаю разницу между собой и Табаковым и понимаю гнев Мостового и хочу, чтобы сейчас он оказался бы рядом. Я знаю — мне будет нелегко говорить с человеком, который может запросто позвонить президенту. Я поднялся слишком высоко, в стратосферу, обитатели которой спокойно живут при давлении, которое земного человека разрывает на куски. Где-то в овраге моей надежды еще горит огонек, в котором теплятся обычная для пожилого человека забывчивость и вполне объяснимое запоздалое высокомерие, но огонек сразу гаснет, как только напротив памятника останавливается черная Мазда.
Когда открывается задняя дверь, я невольно оглядываюсь по сторонам — убедиться, что кроме меня, на живую легенду никто не обратит внимание. Его и вправду нелегко узнать, при том что одежда выделяет его ярким цветовым пятном даже, наверное, с противоположного берега пруда. На голове у него бежевая кепка, глаза скрыты широкими темными очками, а поверх белых брюк навыпуск красуется ярко-желтая тенниска. Я едва сдерживаю улыбку, которая наверняка делает мою физиономию виноватой. Мне хочется с ходу компенсировать ему потраченное на меня время, и я виновато улыбаюсь Табакову и знаю, что выгляжу полным идиотом.
— Повезло, что застали, — пожимает он мне руку прохладной ладонью. — Послезавтра в отпуск улетаю. Ну что, пройдемся? — кивает он на аллейную дорожку, на которой нас ожидают встречи со скульптурными фрагментами крыловских басен.
— Мне Догилева позвонила, — говорит Табаков.
Понимающе кивнув, я внутренне теряюсь: для меня эта новость звучит как предательство.
— Признаться, удивлен, — продолжает он. — Удивлен вниманием следствия к своей персоне. И не только к своей.
— Олег Павлович, — говорю я, — мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли меня правильно.
— Я все понимаю, — понимающе кивает он. — Вы меня не подозреваете и все такое. А вы-то сами понимаете?
— Мы? Простите?
— Как бы объяснить, — трет он лоб над очками. — Если коротко: кто такой Табаков и кто Карасин?
— Совершенно согласен, — киваю я и прикладываю ладонь к груди, — мы даже не ставили под сомнение…
— Ну вот, — перебивает он, — я же говорю, не понимаете.
Остановившись, он косится на уютный островок посреди аллеи — спрятанные под навесом две скамейки и столик между ними.
— Присядем?
Мы садимся друг напротив друга, и Табаков снимает очки. Тень от навеса торопит вечер, но даже в опустившейся на нас двоих ночи я различаю воспаленную красноту его глаз.
— Вы должны понять, — говорит он, — а то еще подумаете, что старик от высокомерия выжил из ума. Давайте в открытую, согласны?
— Я на это и рассчитывал.
— А мне и нечего скрывать. Ничего не имея лично против вас… Вы, кстати, в каком звании?
— Советник юстиции.
— Это как? — удивляется Табаков.
— То же самое, что майор.
— Вот видите, — улыбается он и я, кажется, впервые в жизни, понимаю, что означает фраза «расплываться в улыбке». — Майор с одной стороны и народный артист СССР, директор театра, член Общественной палаты и так далее, и так далее. Положение не обязывает, понимаете? Опять же — вскидывает он ладонь, — ничего личного и, надеюсь, без обид.
— Все в порядке, — стараюсь улыбаться я, понимая, что все в полном беспорядке.
— Спрашивается, зачем это нужно? Вашему начальству — зачем? Оно что, по своей воле направило вас сюда? При том, что всем все понятно: к расследованию убийства это не имеет никакого отношения.
— Вы так думаете? То есть, — спохватываюсь я, — вы считаете, что мы роем не в том месте?
— Дорогой мой советник юстиции! Ничегошеньки здесь вы не роете, и вы знаете это лучше меня. Можете занести мои слова в протокол — кстати, вы почему не записываете?
— У нас неофициальная беседа, — пожимаю плечами я. — По крайней мере, я на это рассчитывал.
Табаков отводит глаза и поджимает губы. О чем он думает и что сейчас скажет, да и скажет ли, или уйдет, не сказав ни слова — об этом я стараюсь не думать.
— Вы участвуете в гнусном мероприятии, — наконец говорит он. — И если у этой истории будет продолжение, это, конечно, будет позором. Вы и весь этот ваш комитет… Это же только первая ласточка. Потом начнется: прокуратура, налоговая, ФСБ, черт-те знает кто еще… Когда там у нас следующие выборы?
— В следующем декабре, — пораженно говорю я. — И потом еще в марте.
— Ну вот, — кивает он, — где-то к тому времени все и закончится.
— Ей-богу, Олег Павлович, — не выдерживаю я, — знал бы, и не подумал беспокоить…
— Сначала вы, — все больше грустнеет он. — Первый, так сказать, звонок. Потом коррупцию приплетут. Воровство, распродажу собственности, взяточничество. «Олег Табаков арестован в собственном кабинете» — как вам такой заголовок?
— Олег Павлович…
— Да шучу я.
Одно мгновение — и передо мной снова улыбающийся артист. Тот еще, надо сказать, артист.
— Нет, серьезно, — он утыкается взглядом во внутреннюю изнанку навеса. — Что они там наверху будут делать, если мы поставим для них заказной спектакль? Как в старые добрые времена, а? Играли же мы в «Современнике» и Ленина, и Дзержинского — лишь бы пропускали настоящее искусство. И сейчас сделаем. Уже делаем, — снова мрачнеет он.
— Меня действительно интересует Карасин, — говорю я. — Только он. Ну и, конечно, тот, кто его убил.
Губы Табакова складываются в ироничную усмешку. На этот раз, он, похоже, не играет.
— Мы с вами вещаем из разных вселенных. Вы выполняете служебное поручение, я же на ваших глазах рисую картину мира. Хотите еще одну? Хотите знать мое мнение о Карасине?
Я киваю.
— Пожалуйста. Налицо еще одно несоответствие, так что я вынужден повториться. Кто Карасин и кто Табаков? Я вам открою профессиональный секрет: театральная критика на хуй никому не нужна, простите за слово «критика», — подмигивает он. — Она не представляет никакого интереса и вред от нее никакого. Равно как и пользы. Вы что думаете, накатают на спектакль разгромную рецензию, спектакль сразу закроют, что ли? Такое при Союзе бывало и то не всегда. Тогда критика имела вес, потому что писалась по заказу соответствующих инстанций.
— Типа «О чем поет Высоцкий?».
— Вот-вот, — поднимает брови Табаков. — Я думал, вы не застали это время.
— Так, по касательной.
— Молодой потому что. А нас били вот сюда, — он с силой хлопает себя по затылку. — Регулярно и с удовольствием. Вот такая критика была приговором, о работе можно было забыть. Знаете, как спасались от критики в советские времена?
— Жаловались в ЦК?
— Бухали. И когда звание присваивали или премию давали — тоже бухали. И сейчас то же самое. Люди-то не поменялись. Сегодняшние артисты — ничем не хуже этих наших великих. Не только пьют не меньше, — он снова дарит мне свою улыбку, и я замечаю, что губы у него — как у годовалого ребенка, — играют ничем не хуже. А раньше — да, били нещадно. А сейчас? Ну что мне критика? Что, ну что может изменить какая-нибудь гадость от какого-нибудь Карасина? Денег, что ли не выделят? Званий лишат? Путин не примет? Аншлаги, черт возьми, закончатся? Что мне до всех этих статей? Да что я — театру, в целом русскому театру что?
— А общественный резонанс?
— Какой там резонанс? — морщится Табаков. — Сильный спектакль — вот резонанс. И — плевать на все дерьмо вокруг! Да хоть бы они писали хорошо! Им самим критики нужны, чтобы их статейки чехвостить. Иногда читаешь — ну, извините меня, ну дурак же дураком!
— То есть критика не востребована?
— Ке-е-м? — притворно хрипит Табаков. — Помните у Жванецкого? Для внутреннего употребления? Критику читают только театралы. Ну, и сами критики. И все.
— Но Карасина ведь читали?
— Бог с вами! Какой тираж у этих несчастных «Итогов»? И что, сократится тираж хотя бы на один экземпляр теперь, когда Карасина нет? Да возьмите любое издание, уберите театральную колонку — ну и что с того будет? А теперь представьте, что со страниц исчезла реклама. Вот это уже серьезно. А вы говорите — Карасин… Что вы в самом деле? Человек прославился тем, что его убили, можно сказать, уснул знаменитым. При чем тут профессиональная популярность?



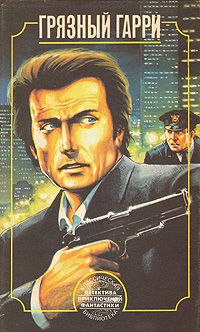
![Филип Рок - Грязный Гарри [другой перевод]](/uploads/posts/books/243304/243304.jpg)