Сергей Дигол - Утро звездочета
— Вы не читали статью, — говорит он.
— Я не читал? — тычу я себя в грудь.
— Не читали.
По его глазам я понимаю, что Сизый обрел спокойствие, с которого мне его уже не сбить. Странно, но я все еще чувствую в себе ярость, а заодно и стыд, который внушают взгляды посетителей кафе и официанта. Последний, правда, так и не решается подойти к нашему столику. Даже ради спокойствия остальных посетителей.
— Я считаю, — сцепив ладони, доверительно говорит Сизый, — что на убийство журналиста можно пойти только будучи не в себе или от отчаяния.
— Ну, это можно сказать в отношении любого убийства, — стараюсь придать голосу расслабленность я.
— Не скажите. Убийство ради наследства — какое же тут отчаяние? Да и идут на такое очень расчетливые люди.
— Ну, допустим.
— О чем я, собственно, написал? О том, что убивая журналиста, преступники попадают под двойное, если можно так выразиться, расследование, — он указывает на меня. — Органы правопорядка с одной стороны, а с другой, — он тычет в себя, — журналистское сообщество. Поверьте, журналисты, если захотят, раскроют любое преступление. Лю-бо-е. Уши, глаза, камеры, диктофоны — мы везде и нас много. Мы расспросим сотню свидетелей, а вы — лишь пятьдесят. Объедем десять городов, а ваш…
— Понятно, понятно, — поднимаю я ладонь. — Я понял идею. У меня к вам будет предложение. За расследование убийства Карасина не возьметесь?
— Я понимаю вашу иронию. И знаю, что вы подумаете, когда я скажу, что любое издание в ответе за своих журналистов.
— Вы предлагаете журналу «Итоги» провести самостоятельное расследование?
— А я не исключаю, что они его уже ведут, и это нормальная вещь. Так делала «Новая газета» в известной печальной истории, так делают на самом деле многие. Не обижайтесь, но журналисты не могут рассчитывать только на правоохранительные органы.
— Слово «только», как я понимаю, вы вставили из деликатности.
— У нас нет оружия, — улыбается он, — по крайней мере, права на его ношение. Как же мы можем соперничать с вами? А если серьезно, я бы на вашем месте поинтересовался позицией «Итогов». Что у них там происходит, шевелятся ли они? Равнодушие к судьбе коллеги — это, между прочим, повод задуматься.
— Хм, — насмешливо хмыкаю я, но в душе моей — тоска и опустошение.
Еще я думаю, что передо мной — потенциальный самоубийца. Родственная мне душа — может поэтому, несмотря на проявленную им твердость, в книге моих воспоминаний Андрей Сизый останется малоприятной кляксой посреди и без того заляпанного листа. Парень мечтает получить пулю в живот и таким необычным способом подстрелить сразу двух зайцев — прославиться на всю страну и доказать собственную теорию. Я же жалею о двух вещах. О том, что даже у Конторы нет полномочий на отстрел журналистов, и еще — о том, что актера Абдулова больше нет в живых.
Я бы ему такую лицензию выписал.
5
Ночь будит меня скомканной простыней и болью в сердце. Через открытое окно город выдыхает в мою квартиру дневной зной, но легче от этого не становится нам обоим — мне и городу. Мы задыхаемся от этого сумасшедшего июля. Я даже вспоминаю отца и сказанные им слова, когда мне было четырнадцать лет. В тот день я впервые почувствовал присутствие Бога и еще — что в своих поступках мы совершенно не зависим от его воли. Единственное, что в его власти — лишить нас, насылая болезни и немощь, возможности действовать самостоятельно. Бог заявил о себе, крепко сдавив мне грудь, так что с каждым вздохом я словно пропускал через горло обнаженное лезвие.
— Это подростковое, — сказал отец. — До двадцати пяти лет инфаркт исключен.
С чего, черт возьми, он это взял? И почему мама, моя заботливая мама даже не попыталась показать меня врачу? И какой толк в том, что на последнем медосмотре я был отнесен к категории самых здоровых сотрудников Конторы? Я мог и не дожить до медосмотра, умереть в четырнадцать лет — что стало бы тогда с маминой верой в бесконечную отцовскую мудрость?
Своего двадцатипятилетия я ждал как отсроченного приговора. Я уже не сомневался, что отец взялся судить о моем здоровье, не имея не малейшего понятия о кардиологии. И все же его фраза не выходила у меня из головы, более того — подпитывала мои и без того сильные подозрения в отношении собственного здоровья. Я вел себя как дурак или ребенок, да и сейчас, в свои тридцать три, мне хочется почувствоваться себя за чьей-то широкой спиной — жаль, что такой шанс в детстве мне предоставлялся нечасто. Наташа же явно ожидала другого. Я сам должен был стать ее опорой, и тем больнее для нее было ранее испытание разочарованием.
Мы были молодоженами без доли преувеличения — со дня нашего свадьбы прошла неделя, — когда я вывез Наташу на дачу в Селятино. Наташе, по большому счету, предстояло знакомство с моими непутевыми родителями. Поездка запомнилась надолго — и родителям, и мне, и, разумеется, Наташе. Из трех дней два последних она провела на скрипучем родительском диване, и маме с папой даже не пришло в голову возмущаться ленностью невестки. В конце концов, не каждый день с породнившимся тебе человеком случается приступ цистита.
В несчастье, постигшем Наташу, был лишь один виновный — ее собственный муж. Заканчивалась последняя неделя октября, когда во время прогулки по опустевшему вечернему парку, куда мы с селятинскими одноклассниками сбегали с уроков, я повалил Наташу прямо на ворох осенних листьев. С тех пор запах прелой листвы всегда действует на меня возбуждающе, но тогда мне хотелось позвонить в Феодосию, словно Наташины родители подсунули мне бракованный товар.
Наташа слегла в тот же вечер и простонала, с перерывами на крики и завывания, до следующего утра, когда, устав от собственной нерешительности и обещания разыскать, по возвращении в Москву, лучшего нефролога, я был вынужден сдаться на милость селятинской медицине.
Местным доктором оказалась крепкая суховатая женщина лет шестидесяти, вызвавшая у меня кашель и какой-то детский страх. Она называла меня хорьком, успев выкурить три сигареты на веранде, и у меня от ее дешевого курева пересохло и даже будто распухло горло.
— Так и сдохнуть недолго, — сощурилась она, выпуская в меня облако дыма. — Не от болезни. От боли, понимаешь, хорек?
— Так сделайте что-нибудь, — просипел я.
— Слушай сюда, хорек, — ткнула она меня рукой с сигаретой, сбросив мне на плечо пепел. — Оторви от дивана жопу и пулей в аптеку. Двухпроцентный папаверин — это снимет боль. Антибиотики. В рецепте все есть. Как станет легче — сразу в Москву и к врачу по месту жительства. Диета. Никакого соленого-перченого. Даже жирного нельзя. И — тепло, хорек. Эта ваша холодная развалюха, — она кивнула на пыльную лампочку под потолком веранды, — не лучшее место для реабилитации.
О своем недуге Наташа помнила до самого развода и ничего мне так и не простила. Прежде всего — разочарования, от которого не спасают даже антибиотики. Даже для меня ее разочарование стало, пожалуй, самым ярким впечатлением от нашего брака. Пересмотрев, уже после развода, видеозапись нашей свадьбы, я не мог поверить, что все это было со мной. И первый танец, и обмен солеными горбушками, и робкие публичные поцелуи — все это исполнял мой давно умерший двойник. Моя жизнь состояла исключительно из внутренних ощущений: мыслях о самоубийстве, периодических болей в груди, и еще — навязчивой идеи о Наташином возвращении.
Когда-то, когда пульсирующему кулаку в моей груди наскучит подавать предупреждающие сигналы, я и в самом деле умру, не дождавшись Наташи и не определившись с моим постоянно пополняющимся суицидальным списком.
Но пока я жив, хотя не нахожу себе места на липнущей к телу простыне. Закрыв глаза, я начинаю мысленный отсчет, но вместо забытия нахожу еще большее раздражение. Веки дрожат, во рту я чувствую сухость и смрад, а в голове моей правит Олег Табаков.
— Карасинкарасинкарасин, — хмурится он и трет висок.
Я терпеливо жду, когда ему наскучит паясничать, но вместо этого он устраивает мне настоящий экзамен. Сквозь сотканное из ночи и полусна видение мой мозг снова и снова задает Табакову вопросы. Я не слышу их, но чувствую интонацию: в нашем воображаемом диалоге я вежлив и осмотрителен, но при этом общителен и настойчив. Я чувствую, что вопросы повторяются через определенное время и не нахожу себе места, мечусь на простыне, безуспешно вырываясь из плена наваждения.
Это все нервы. Накануне я совершенно извелся, не решаясь позвонить Табакову и насквозь вспотел, пока слушал в трубке длинные гудки. Теперь мой мозг устраивает принудительную репетицию предстоящей встречи, и чувствую я себя не лучше, чем на допросе с пристрастием.
Я все же вырываюсь из объятий своего частично контролируемого кошмара. Сажусь на кровать и жду, пока глаза привыкнут к полумраку. Добираюсь — как именно, не помню — в ванную и подставляю голову под струю, но вода, даже из холодного крана, в эти дни не решается спорить с погодой. Я, наверное, мог бы наполнить ею чашку с заваркой, если бы вздумал выпить едва теплый чай. Потом я все-таки отрубаюсь, но настоящий, глубокий сон становится для меня еще большим кошмаром, может, оттого, что я его запомнил в деталях.



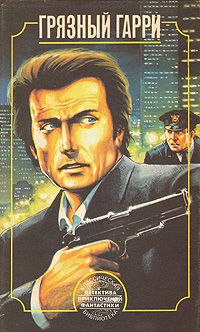
![Филип Рок - Грязный Гарри [другой перевод]](/uploads/posts/books/243304/243304.jpg)