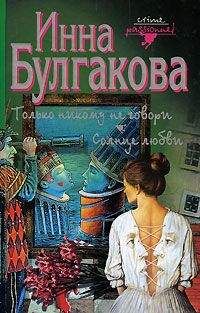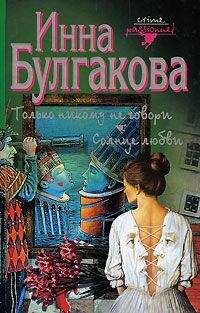Инна Булгакова - Сердце статуи
— Эх, если б она насовсем бросила и не появлялась в моем доме!
— Ладно, бери.
Она сняла фотографию, державшуюся на кнопочках. Я поспешно (тяжело смотреть на это полудетское лицо, будто раздвоение личности начинается) спрятал ее в сумку.
— Да, кстати, это Верины босоножки?
Весь узелок я брать к ней не стал; вид у него был какой-то жалкий и … с м е р т н ы й. Но Наташа и так содрогнулась.
— Веру нашли?
— Нет, нет, только вещи. Так ее?
— Ага, — она отвернулась и всхлипнула. — В Лужниках на толкучке весной купила.
— Наташ, а у меня в доме могла быть какая-нибудь ее одежда, ну, запасная?
— Она не у тебя жила, только приезжала иногда к тебе. Я проверила, Котов просил: все вещи тут, в сумке или в шкафу. Кроме шелковых брюк и сумочки. Где ты нашел?
— В дупле дерева.
— Господи, вот ужас! А под деревом в земле…
— Нет, нет! Я сегодня утром все облазил, вековой дуб, корневище, что могилу невозможно вырыть. А вокруг ветвей сорока-воровка летает и бисер с блузки клюет. «Сорока-воровка» — так нашу Веру один тип назвал.
Наташа слушала зачарованно и вдруг спросила:
— Ты веришь в переселение душ?
Я почему-то не верил.
— Ну как же! — настаивала она. — Я слыхала, какие случаи бывают: в бреду больная говорит на чужом языке, ей не известном… или вообще на умершем языке.
Тут я напрягся и ответил:
— Если душа бессмертна во веки веков, то в ней заложена вся здешняя, земная информация, все знание, понимаешь? И всплывает оно в стрессовых ситуациях, на грани смерти.
Я говорил, а сам не понимал: чьи я слова повторяю? Свои? Из прошлой жизни?
— Так чего ж мы не знаем ни черта?
— Слишком тяжкий груз — психика не выдержала бы. Мы знаем, но до времени не помним, защитный механизм работает.
— Поэтому ты убийство не помнишь?
— Поэтому. Иногда мне кажется: я все вспомню и умру.
— Никогда не поверю, что мужик может от любви умереть.
— Так я ее любил?
Наташа усмехнулась с горечью.
— Лучше б ты не появлялся в нашей жизни.
— Это да. Но если я ревновал…
— Ничего ты не ревновал, у вас была нормальная связь.
— Что такое «нормальная связь»?
— Без трагедий и претензий друг к другу.
— Странно. Как у нас началось?
Однажды этой весной у подруг кончились деньги. «Ну, прям совсем!» И Вера поехала в центр продать или заложить свои золотые часики.
— Мировые! Вот этот режиссер подарил. — Наташа мотнула головой на пустую стенку.
— Который утонул?
— Ага. Ну, у них давно, зимой там что-то было.
Где-то ближе к вечеру Вера позвонила: «Освободи площадь». Надо думать, в этом пикантном плане подруги понимали друг друга с полуслова; и Наташа закатилась, по ее выражению, до поздней ночи к киношным знакомым. Вернувшись, застала Веру уже одну. Она была злая и весела одновременно. И деньги были.
— А часики?
— Вера продала их гораздо дороже, чем мы ожидали. Даже выпросила у него еще поносить.
— У кого?
— Не знаю. У часовщика или у ювелира. «Ну, я ему показала класс!» — так она выразилась.
— Такой класс, — мрачно добавил я, — что ювелир испугался и тотчас подсунул ее мне.
— Вольно ж было связываться, — бросила Наташа небрежно.
— Да разве я их виню? Себя, идиота. Связался с проституткой.
— Ну-ка пошел отсюда!
— Да я ж не про тебя. Прости.
— И про нее не смей.
— Она вымогала плату. Как это называется?
— Отстань!
— Наташ, мне необходимо разобраться, что у нас с ней было.
— Разобраться? Она из-за тебя погибла.
— Я хочу найти убийцу и истребить.
— Поздно! Я ее предупреждала, что вы все — свиньи. А она: любовь — единственное, что чего-то стоит в этом мире.
— Сколько стоит?
— У тебя не хватит.
— Денег не хватит?
— Чувств-с.
— А, так ее к Колпакову чувства влекли. Извини, я не подумал.
— А ты вообще о ней не думал — только о своей Цирцее.
— А она о драгоценностях. Что ж, мы друг друга стоили.
— Она-то умерла, а ты процветаешь!
— Не дай тебе Бог. Я все потерял.
— Наживешь! Вон какой ты зверь сильный.
Наташа вдруг резво рассмеялась и переменила тактику: притянула за шею меня к себе (я аж на колени упал), принялась целовать, ласкать с таким пылом и пониманием… Я устоял, угадав маневр: увлечь и уесть «моралиста». Но устоял с трудом, ощутив внезапно знакомые симптомы: вспыхнувшая зараза в крови, как морозная язва — госпожа жизни и смерти. Вот, значит, к каким женщинам меня влекло! Я ее не помню, а ощущение живо и бешено.
Я опять на тахту уселся и оттолкнул Наташу… не оттолкнул, а нежно отстранил, прошептав:
— Не надо… ты мне безумно нравишься, но не надо. Я хочу другой жизни.
— Без любви?
— Другой любви.
Она рассмеялась с торжеством и закурила.
— Против природы не попрешь.
— Нет, не так! Кабы было так, мы правда все в свиней превратились бы.
Тут я окончательно в себя пришел и дал в душе клятву: к этой девице ни ногой! Фотографию потом по почте вышлю. Мы оба дымили в молчании напряженном, но не враждебном. Квартирка на тринадцатом этаже была вся пронизана солнцем и сквознячком, и дым выползал в лоджию змейками.
— Ну что, — начала она, усмехаясь, — все интересуешься, как ты к Вере относился?
— Ты мне уже сказала… показала. Я вспомнил.
— Что вспомнил?
Я рассмеялся и продекламировал:
— «В крови горит огонь желанья, душа тобой уязвлена». Довольна?
— Это Пушкин, что ль? Красиво. А дальше.
— «Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мирра и вина». Наташ, что она сказала, когда я подарил ей изумруд? — я достал кулон из кармана рубашки. — Ведь этот?
Она схватила, поднесла к лицу, жадно разглядывая.
— Этот. Ну, счастлива была, когда в ювелирный съездила и убедилась, что камень настоящий.
— Она мне не верила?
— Как можно верить мужчинам? — искренне удивилась Наташа. — О, правда застежка порвана. Она так переживала — боялась, назад не получит, ведь ты такую прелесть в глине чуть не замуровал.
Мне захотелось проверить, до конца ли идентичны эти сороки-воровки.
— Я тебе его дарю.
— За что?
— Как память о покойнице.
— Серьезно? — она прижала руку с драгоценностью к груди. — Нет, серьезно?
Черные очи напротив сверкнули бездонным мраком… и вдруг мелькнула в них как бы тень… как страх.
— Мне самому починить или…
— Как ты сказал? — перебила она. — «Память о покойнице»?
— Вы же самые близкие подруги были?
— Самые близкие, — подтвердила она с вызовом… и тут какая-то тайна… может быть, проскользнула усмешка, секрет-привет с древнегреческого острова Лесбос. Не исключено. Холод и пустота охватывают меня при звуке имени — краткого, красивого — Вера.
— Забирай, — Наташа бросила кулон мне на колени, не спуская с него глаз. — Убери, а то и правда соблазнюсь.
— Да в чем дело-то?
— Забирай, говорю! — она наблюдала, как я в карман украшение засунул. — Ты гроб вскрывал?
— Какой гроб?
— Забыл уже? Или выдумал!
— Открывал, конечно. Пустой.
— А вдруг там двойное дно?
— Да ну, ерунда! — отмахнулся я, но ко всем моим страхам еще один прибавился, какой-то ноющий.
— Ладно. Пообщались — и будет.
— Ты на меня обиделась?
— Нет, Макс, ты человек… Просто мне почему-то страшно.
21
Мы бродили по обширной мастерской моего учителя, где в рабочем хаосе вперемежку стояли колхозницы с серпами, рабочие с молотами, и православные святые с крестами… Во какая жизнь пошла, а мне как-то все равно, я безе перехода в новой эре очутился.
Ч человек рассеянный, Максим, — говорил Святослав Михайлович, — но что касается работы — зверь, тут уж ничего мимо меня не пройдет. Как сейчас вижу: две дорогих тебе маски в простенке между окошками.
— И больше нигде…
— Ну, может, ты где-то еще их держал… Притом же я был у тебя зимой. Если с того времени ты выполнял заказ, например, или скончался кто-то, тебе близкий…
— Скончался! — меня вдруг осенило. — Женщина в автомобильной катастрофе.
Профессор посмотрел на меня с сочувствием.
— Не переживайте, я ничего не помню. Жена моего друга. И будто бы я любил ее.
— Ах, вот что!
— Нет, по-человечески. Мы только вчера на эту тему разговаривали, но ни о какой посмертной маске он не упоминал.
— Значит, ты ее не делал.
— Это еще вопрос. Да, ведь Колпаков к автомобилю вышел, когда мы с доктором…
— О чем ты?
— Так, мысли вслух. Можно позвонить?
— Пожалуйста.
Однако ювелир где-то в бегах пребывал, ни по одному из трех телефонов не отзывался.
— А в чем, собственно, соль?
— Пока не знаю, Святослав Михайлович. Пытаюсь нащупать причины и следствия в потемках.