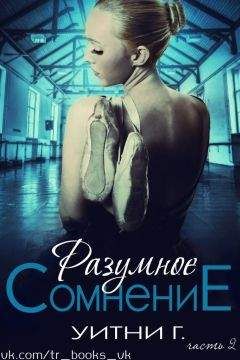Леонид Словин - Победителям не светит ничего (Не оставь меня, надежда)
И это ему тоже велел сделать эмиссар: ни в коем случае не полицейское удостоверение.
Из темноты вышел чернявый, с вьющимися волосами человек лет сорока.
«Ему бы пейсы, черный костюм, и шляпу и был бы типичный „дос“ обитатель „Меа Шеарим“ — иерусалимского квартала, населенного ультрарелигиозными пуританами».
Алексу снова пришлось представиться.
— Можно мне поговорить с вами?
— Идемте, — тот повел его за собой.
Старуха шла следом за ними. Взглянув на Крончера, сын остановил ее:
— Ну я прошу тебя!..
Старуха отстала. Ее сын привел Алекса в комнату.
Затхлость, старая и неуклюжая мебель.
Алекс уселся на стул. Он уже понимал, что разговор предстоит нелегкий.
— Вам ведь пересадили почку, господин Гольдштейн?
— А если да?
— Профессор Бреннер, не правда ли?
— А почему вы отвечаете вопросом на вопрос? — настороженно спросил старухин сын.
— А что я, не еврей, что ли? — усмехнулся Алекс.
— Нет, — твердо заметил тот, — вы — израильтянин…
— Это правда, — пожал плечами Алекс, — но мои родители из Москвы…
— Нет, — покачал тот головой, — мы с Украины…
Алексу стало тоскливо. Ему нехватало воздуха, детского гама, шума телевизора.
— Можно у вас узнать, кто вам его порекомендовал?
— Чего вы добиваетесь, господин Крончер? — с явной опаской спросил Гольдштейн. — Зачем все это вы выспрашиваете? Я простой инженер. Работаю на заводе…
Алекс молчал. Пусть выговорится. Такие люди не могут глядеть опасности прямо в глаза. Они пытаются обойти ее.
Чаплиновская ситуация, из которой исчез весь юмор, и остались лишь боль и унижение.
— Если вы имеете ввиду, на какие деньги я это сделал, то знайте: я их не крал и не присваивал. Это деньги моих близких — отца и матери…
Старуха просунула голову внутрь. В глазах ее раненым зверем метались огоньки страха.
— Оставьте нас в покое! Что вам надо? Мы всю свою жизнь жили тихо и скромно. Мой муж был продавцом в магазине. Все, что скопили за жизнь, я отдала Толе…
— Меня не интересуют ваши деньги: я не из налогового управления, терпеливо объяснял Алекс.
Но ему не верили.
— Все, что было, все ушло… — словно сдирая с раны окровавленный и засохший бинт, — трясла головой старуха. — Миша умер десять лет назад. Кто — Толя мог на свою инженерскую зарплату что-нибудь откладывать? Я? Его жена? — показала она с укором на сына.
Алексу казалось, он попал в омут семейных горестей и разочарований.
Жалкие беды — жалкие люди! Их не хватает не только на самоуважение и сдержанность — даже на отчаянье, не говоря уже о бунте, взрыве возмущения.
— Жена ему их дала? — волосы старухи были похожи на всклоколченную паклю. — Я ногтями вцепилась! Крохи, что после Миши остались, не дала тронуть! Конечно, я — жидовка поганая, клоп, кровосос! А несчастье пришло, она его выручила? Детей взяла, и — за дверь? «Он мне их еще переза разит», — сказала…
Алекс прикрыл глаза. На него накатывало что-то клейкое, холодное, мокрое.
— Два года Толя страдал… К кому мы только не обращались?… Как только не лечились?… Врачи — бессовестные: один говорит одно, другой другое, третий — третье. И все попробуй, все найди, все купи…
Сын впился ногтями в несвежую скатерть на столе, хотя наверняка слышал эту историю десятки раз…
— Ничего не осталось, — кольцо обручальное продала — то, что Миша мне на свадьбу подарил… Он был мне мамочкой. Он был мне папочкой… На пятнадцать лет старше… Кто мне помог? Государство? Вы? Или ваш Израиль?
Алекс почти точно знал, что сейчас будет: она начнет жаловаться и рассказывать о своих несчастьях. Но жалоб он не услышал, история ее была короткой и унылой. Жестокой. Как сама безнадежность…
Голод… Холод… Эвакуация… Отец, погибший где — то под Ростовом он и воевать не умел: винтовки никогда в руках не держал… Ей с сестрой и матерью еще повезло: другим, — не так. Те, что не успели — остались. Смерзлись с землей, с зале деневшими лужами…
А потом она встретила Мишу. В чиненной и перечиненной гимнастерке и стоптанных солдатских сапогах: две медальки на груди, знак ранения. Тоже всех потерял. Но он так хотел выжить! Так хотел продолжить! Так хотел завести семью! Вот он их и спас. Рубил мясо в магазине и всех потихонечку кормил. Не зарывался, не вылезал, не высовывался. Только уже много лет спустя поехал на Украину и там вырыл в лесу сундучок, а в нем — старинный свиток Торы, который из поколения в поколения передавался в семье.
— Толика Бог спас… — слезились у старухи глаза. — Тора… Когда мне сказали, что без операции ему не жить, я стала искать, кто бы ее сделал. Поехала в Москву. Там один добрый человек у синагоги сказал, что знает кого — то, кто может нам помочь…
— Вы ему дали деньги?
— Конечно! А как вы хотите? Бесплатно?! Я рассказала ему про Тору. Он привез сюда, в Кострому, специалиста по таким вещам. Они пришли сюда. И тот, второй, взял Тору. А Толю повезли на операцию. В Таллинн…
Алекс поперхнулся: тут были отзвуки истории, которую он слышал от московского эмиссара израильской полиции.
«Убитый в Костроме от ножа партнер, специалист по антиквариата… Вот зачем они приезжали сюда!..»
Ярость кипела в нем вместе с жалостью.
Сомнений у Алекса не было: это Панадис!
— Узенькие усики на круглом лице? — вырвалось у него.
Старуха вонзилась в него ожесточившимся взглядом животного, у которого вот — вот отнимут единственного детеныша, и стала за спиной сына.
Она его спасет. Она его никому не отдаст…
«Импрессарио» заработал на этих несчастных дважды: и на операции и на продаже музейной редкости. Он же мог и заказать убийство партнера, чтобы не делить навар…
Но если эту старуху свести с Панадисом лицом к лицу, она никогда и ничего не подтвердит… А, кроме того, не это — цель его презда в Россию!
— У меня к вам просьба. Это очень важно… Вы что-нибудь знаете о вашем доноре? Кто он? Откуда?
Старуха, еще не дослушав, принялась качать головой:
— Что мы можем знать?! Оставьте нас в покое…
Может ей пришло на ум, что почку могут отобрать, вернуть тому, кому она прежде принадлежала?!
Сын снова вывел из комнаты мать и прикрыл дверь.
Похожий на религиозного оротодокса Толик-Натан, удалив — шийся к сеье, приоткрыл дверь:
— Я слышал, что-то про Китай. Трансплантанты везли самолетом через Ташкент… Человек, который все устроил, перед операцией звонил в «Домодедово». Рейс Ташкент — Москва опаздывал…
— Натан… — старуха что-то быстро прокричала на идиш.
Крончер разобрал лишь одно слово «рахамим», оно залетело из иврита и означало одно: «милосердие».
«Пожалей мать?!»…
— Вы помните день, когда вам сделали операцию?
— Еще бы! Двадцать второго…
Старуха готова была валяться у сына в ногах, только бы — он не раскрывал больше рта.
Уходя, Крончер оставил на старом ящике для туфель в передней несколько стодолларовых банкнот. Не мог не оставить…
Панадис ждал связного Ли в баре гостиницы «Космос». Но китаец опаздывал.
Панадис нервничал. Такого еще никогда не случалось.
Он допил коктейль до конца и лишь потом взглянул на часы. Ожидание длилось уже тридцать восемь минут.
Панадис заказал второй коктейль.
В сущности, бакинец и не собирался допивать его до конца: он следил не только за количеством спиртного, которое себе позволял, но и за калорийностью еды. Полнеть больше он не хотел. Как врач он хорошо знал, к чему приводят излише ства.
Чтобы не вызывать подозрений, он потихонечку тянул сквозь пластиковую трубочку розоватую жидкость, в которой переливались тающие кусочки льда.
Минут через десять Панадис расплатился, щедро оставив на чай, вышел из бара в холл, к телефону-автомату. У него было несколько жетонов. Медленно, успокаивая себя, вращал диск. Три, пять, семь… Он был уверен, что никто не ответит.
Внезапно зуммер прервал незнакомый мужской голос:
— Кого вам?
Панадис переждал пару секунд и спросил:
— Могу я переговорить с господином Ли?
— А кто его спрашивает? — тут же осведомился незнакомец.
— Знакомый, — поспешил ответить Панадис.
— Его нет сейчас. Что-нибудь передать?
— Нет, нет, спасибо, я позвоню позже…
— Вам срочно? — продолжил голос в трубке. — Он скоро будет звонить. В принцмпе, если хотите, его можно найти. Что передать? Кто его спрашивает?
Панадис понял: его хотят как можно дольше удержать у телефонной трубки. Так обчно поступают менты, когда хотят засечь, откуда говорят. Он осторожно положил трубку и тут же, чтобы спутать ментам карты, перезвонил по первому пришедшему в голову номеру.
— Квартира Мухиных? — осведомился он. — Простите, пожалуйста, ошибка…
Дойдя до метро «ВДНХ», он спустился вниз на эскалаторе, всегда казавшемся ему здесь особенно длинным. Сел в подошедший состав и поехал в сторону «Медведкова».